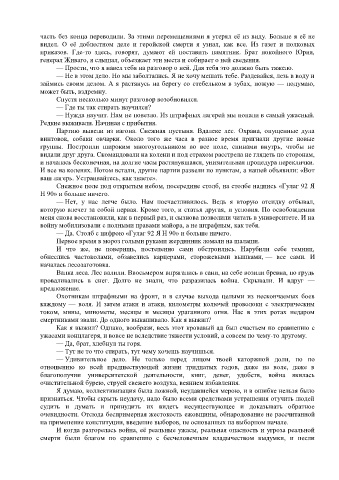Page 291 - Доктор Живаго
P. 291
часть без конца переводили. За этими перемещениями я утерял её из виду. Больше я её не
видел. О её доблестном деле и геройской смерти я узнал, как все. Из газет и полковых
приказов. Где-то здесь, говорят, думают ей поставить памятник. Брат покойного Юрия,
генерал Живаго, я слышал, объезжает эти места и собирает о ней сведения.
— Прости, что я навел тебя на разговор о ней. Для тебя это должно быть тяжело.
— Не в этом дело. Но мы заболтались. Я не хочу мешать тебе. Раздевайся, лезь в воду и
займись своим делом. А я растянусь на берегу со стебельком в зубах, пожую — подумаю,
может быть, вздремну.
Спустя несколько минут разговор возобновился.
— Где ты так стирать научился?
— Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей мы попали в самый ужасный.
Редкие выживали. Начиная с прибытия.
Партию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, опущенные дула
винтовок, собаки овчарки. Около того же часа в разное время пригнали другие новые
группы. Построили широким многоугольником во все поле, спинами внутрь, чтобы не
видали друг друга. Скомандовали на колени и под страхом расстрела не глядеть по сторонам,
и началась бесконечная, на долгие часы растянувшаяся, унизительная процедура переклички.
И все на коленях. Потом встали, другие партии развели по пунктам, а нашей объявили: «Вот
ваш лагерь. Устраивайтесь, как знаете».
Снежное поле под открытым небом, посередине столб, на столбе надпись «Гулаг 92 Я
Н 90» и больше ничего.
— Нет, у нас легче было. Нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал,
которую влечет за собой первая. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождении
меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на
войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя.
— Да. Столб с цифрою «Гулаг 92 Я Н 90» и больше ничего.
Первое время в мороз голыми руками жердинник ломали на шалаши.
И что же, не поверишь, постепенно сами обстроились. Нарубили себе темниц,
обнеслись частоколами, обзавелись карцерами, сторожевыми вышками, — все сами. И
началась лесозаготовка.
Валка леса. Лес валили. Ввосьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь
проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг —
предложение.
Охотникам штрафными на фронт, и в случае выхода целыми из нескончаемых боев
каждому — воля. И затем атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим
током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром
смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил?
Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с
ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому.
— Да, брат, хлебнул ты горя.
— Тут не то что стирать, тут чему хочешь научишься.
— Удивительное дело. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по
отношению ко всей предшествующей жизни тридцатых годов, даже на воле, даже в
благополучии университетской деятельности, книг, денег, удобств, война явилась
очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления.
Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерою, и в ошибке нельзя было
признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей
судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное
очевидности. Отсюда беспримерная жестокость ежовщины, обнародование не рассчитанной
на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале.
И когда разгорелась война, её реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной
смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, и несли