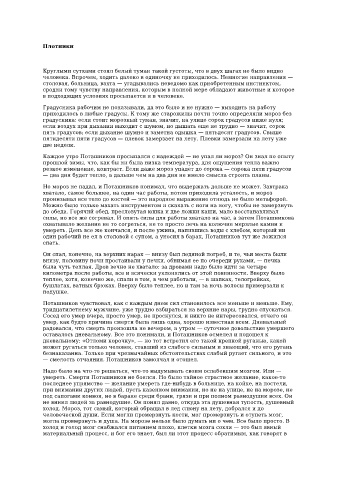Page 9 - Колымские рассказы
P. 9
Плотники
Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно
человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления —
столовая, больница, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом,
сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое
в подходящих условиях просыпается и в человеке.
Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно — выходить на работу
приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без
градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля;
если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно — значит, сорок
пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка — пятьдесят градусов. Свыше
пятидесяти пяти градусов — плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже
две недели.
Каждое утро Поташников просыпался с надеждой — не упал ли мороз? Он знал по опыту
прошлой зимы, что, как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно
резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до сорока — сорока пяти градусов
— два дня будет тепло, а дальше чем на два дня не имело смысла строить планы.
Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака
хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз
пронизывал все тело до костей — это народное выражение отнюдь не было метафорой.
Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть
до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал
силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова
охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и
умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни
один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился
спать.
Он спал, конечно, на верхних нарах — внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были
внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, — печка
была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре
километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было
теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, — в шапках, телогрейках,
бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к
подушке.
Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему,
тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться.
Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он
умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный
радовался, что смерть произошла не вечером, а утром — суточное довольствие умершего
оставалось дневальному. Все это понимали, и Поташников осмелел и подошел к
дневальному: «Отломи корочку», — но тот встретил его такой крепкой руганью, какой
может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань
безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного, и это
— смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел.
Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или —
умереть. Смерти Поташников не боялся. Но было тайное страстное желание, какое-то
последнее упрямство — желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели,
при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не
под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех. Он
не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный
холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до
человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг,
могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В
холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный
материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в