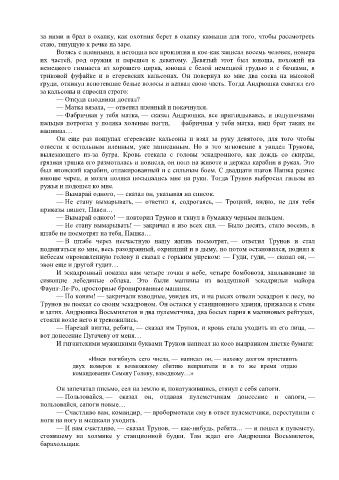Page 41 - Конармия
P. 41
за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть
стаю, тянущую к речке на заре.
Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера
их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на
немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в
триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой
груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его
за кальсоны и спросил строго:
— Откуда сподники достал?
— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.
— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками
пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не
нашивал…
Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы
отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова,
вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды,
грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это
был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес
юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из
ружья и подошел ко мне.
— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.
— Не стану вымарывать, — ответил я, содрогаясь, — Троцкий, видно, не для тебя
приказы пишет, Павел…
— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.
— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в
штабе не посмотрят на тебя, Пашка…
— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал
подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к
небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди, — сказал он, —
эвон еще и другой гудит…
И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за
сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора
Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.
— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но
Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене
и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах,
стояли возле него и тревожились.
— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, —
вот донесение Пугачеву от меня…
И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:
«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить
двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю
командование Семену Голову, взводному…»
Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.
— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, —
пользовайся, сапоги новые…
— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с
ноги на ногу и мешкали уходить.
— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята… — и пошел к пулемету,
стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов,
барахольщик.