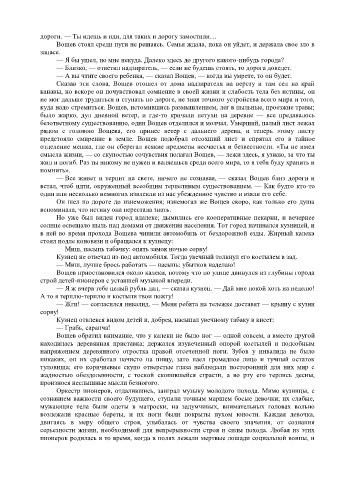Page 3 - Котлован
P. 3
дороги. — Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили…
Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в
запасе.
— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?
— Близко, — ответил надзиратель, — если не будешь стоять, то дорога доведет.
— А вы чтите своего ребенка, — сказал Вощев, — когда вы умрете, то он будет.
Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край
канавы, но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он
не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того,
куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы;
было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне — все предавалось
безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал
рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу
предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное
отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не имел
смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты
жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и
помнить».
— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, — сказал Вощев близ дороги и
встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то
один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.
Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа
вспоминала, что истину она перестала знать.
Но уже был виден город вдалеке; дымились его кооперативные пекарни, и вечернее
солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и
в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека
стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:
— Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!
Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.
— Миш, лучше брось работать — насыпь: убытков наделаю!
Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города
строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.
— Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. — Дай мне покой хоть на неделю!
А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!
— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни
сорву!
Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:
— Грабь, саранча!
Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой
находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным
напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было
никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток
туловища; его коричневые скупо отверстые глаза наблюдали посторонний для них мир с
жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны,
произнося неслышные мысли безногого.
Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с
сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые,
мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно
возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка,
двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания
серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих
пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной воины, и