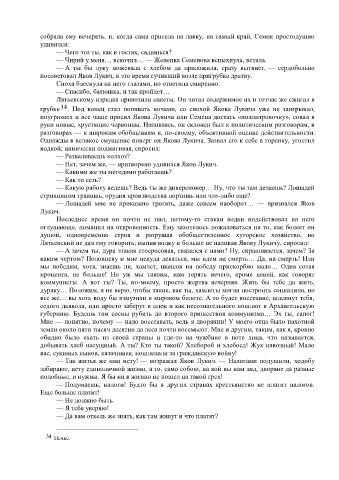Page 92 - Поднятая целина
P. 92
собрала ему вечерять, и, когда сама присела на лавку, на самый край, Семен простодушно
удивился:
— Чего это ты, как в гостях, садишься?
— Чирий у меня… вскочил… — Жененка Семенова вспыхнула, встала.
— А ты бы луку пожевала с хлебом да приложила, сразу вытянет, — сердобольно
посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле пригрубка дратву.
Сноха блеснула на него глазами, но ответила смиренно:
— Спасибо, батюшка, и так пройдет…
Лятьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас же сжигал в
грубке 34 . Под конец стал попивать ночами, со снохой Якова Лукича уже не заигрывал,
поугрюмел и все чаще просил Якова Лукича или Семена достать «поллитровочку», совал в
руки новые, хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, в
разговорах — к широким обобщениям и, по-своему, объективной оценке действительности.
Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича. Зазвал его к себе в горенку, угостил
водкой; цинически подмигивая, спросил:
— Разваливаешь колхоз?
— Нет, зачем же, — притворено удивился Яков Лукич.
— Какими же ты методами работаешь?
— Как то есть?
— Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер… Ну, что ты там делаешь? Лошадей
стрихнином травишь, орудия производства портишь или что-либо еще?
— Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наоборот… — признался Яков
Лукич.
Последнее время он почти не пил, потому-то стакан водки подействовал на него
оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он
душой, одновременно строя и разрушая обобществленное хуторское хозяйство, но
Лятьевский не дал ему говорить; выпив водку и больше не наливая Якову Лукичу, спросил:
— А зачем ты, дура этакая стоеросовая, связался с нами? Ну, спрашивается, зачем? За
каким чертом? Половцеву и мне некуда деваться, мы идем на смерть… Да, на смерть! Или
мы победим, хотя, знаешь ли, хамлет, шансов на победу прискорбно мало… Одна сотая
процента, не больше! Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят
коммунисты. А вот ты? Ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе да жить,
дураку… Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты могли построить социализм, но
все же… вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет восстание, шлепнут тебя,
седого дьявола, или просто заберут в плен и как несознательного пошлют в Архангельскую
губернию. Будешь там сосны рубить до второго пришествия коммунизма… Эх ты, сапог!
Мне — понятно, почему — надо восставать, ведь я дворянин! У моего отца было пахотной
земли около пяти тысяч десятин да леса почти восемьсот. Мне и другим, таким, как я, кровно
обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине в поте лица, что называется,
добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед! Жук навозный! Мало
вас, сукиных сынов, казачишек, пошлепали за гражданскую войну!
— Так житья же нам нету! — возражал Яков Лукич. — Налогами подушили, ходобу
забирают, нету единоличной жизни, а то, само собою, на кой вы нам ляд, дворяне да разные
подобные, и нужны. Я бы ни в жизню не пошел на такой грех!
— Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов.
Еще больше платит!
— Не должно быть.
— Я тебя уверяю!
— Да вам откель же знать, как там живут и что платят?
34 Печке.