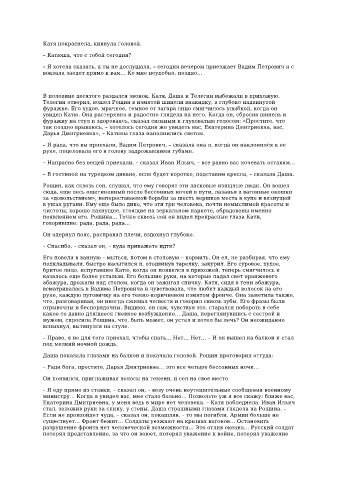Page 177 - Хождение по мукам. Сёстры
P. 177
Катя покраснела, кивнула головой.
– Катюша, что с тобой сегодня?
– Я хотела сказать, а ты не дослушала, – сегодня вечером приезжает Вадим Петрович и с
вокзала заедет прямо к вам… Ко мне неудобно, поздно…
В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин выбежали в прихожую.
Телегин отворил, вошел Рощин в измятой шинели внакидку, в глубоко надвинутой
фуражке. Его худое, мрачное, темное от загара лицо смягчилось улыбкой, когда он
увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Когда он, сбросив шинель и
фуражку на стул и здороваясь, сказал сильным и глуховатым голосом: «Простите, что
так поздно врываюсь, – хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна, вас,
Дарья Дмитриевна», – Катины глаза наполнились светом.
– Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович, – сказала она и, когда он наклонился к ее
руке, поцеловала его в голову задрожавшими губами.
– Напрасно без вещей приехали, – сказал Иван Ильич, – все равно вас ночевать оставим…
– В гостиной на турецком диване, если будет коротко, подставим кресла, – сказала Даша.
Рощин, как сквозь сон, слушал, что ему говорят эти ласковые изящные люди. Он вошел
сюда, еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазанья в вагонные окошки
за «довольствием», непереставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и вязнущей
в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти три человека, почти немыслимой красоты и
чистоты, хорошо пахнущие, стоящие на зеркальном паркете, обрадованы именно
появлением его, Рощина… Точно сквозь сон он видел прекрасные глаза Кати,
говорившие: рада, рада, рада…
Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко.
– Спасибо, – сказал он, – куда прикажете идти?
Его повели в ванную – мыться, потом в столовую – кормить. Он ел, не разбирая, что ему
подкладывали, быстро насытился и, отодвинув тарелку, закурил. Его суровое, худое,
бритое лицо, испугавшее Катю, когда он появился в прихожей, теперь смягчилось и
казалось еще более усталым. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого
абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура,
всматривалась в Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его
руке, каждую пуговичку на его темно-коричневом измятом френче. Она заметила также,
что, разговаривая, он иногда сжимал челюсти и говорил сквозь зубы. Его фразы были
отрывочны и беспорядочны. Видимо, он сам, чувствуя это, старался побороть в себе
какое-то давно длящееся гневное возбуждение… Даша, переглянувшись с сестрой и
мужем, спросила Рощина, что, быть может, он устал и хотел бы лечь? Он неожиданно
вспыхнул, вытянулся на стуле.
– Право, я не для того приехал, чтобы спать… Нет… Нет… – И он вышел на балкон и стал
под мелкий ночной дождь.
Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Рощин проговорил оттуда:
– Ради бога, простите, Дарья Дмитриевна… это все четыре бессонных ночи…
Он появился, приглаживая волосы на темени, и сел на свое место.
– Я еду прямо из ставки, – сказал он, – везу очень неутешительные сообщения военному
министру… Когда я увидел вас, мне стало больно… Позвольте уж я все скажу: ближе вас,
Екатерина Дмитриевна, у меня ведь в мире нет человека. – Катя побледнела. Иван Ильич
стал, заложив руки за спину, у стены. Даша страшными глазами глядела на Рощина. –
Если не произойдет чуда, – сказал он, покашляв, – то мы погибли. Армии больше не
существует… Фронт бежит… Солдаты уезжают на крышах вагонов… Остановить
разрушение фронта нет человеческой возможности… Это отлив океана… Русский солдат
потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение