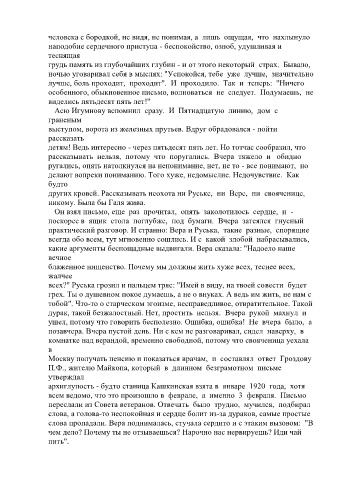Page 3 - Старик
P. 3
человека с бородкой, не видя, не понимая, а лишь ощущая, что нахлынуло
наподобие сердечного приступа - беспокойство, озноб, удушливая и
теснящая
грудь память из глубочайших глубин - и от этого некоторый страх. Бывало,
ночью уговаривал себя в мыслях: "Успокойся, тебе уже лучше, значительно
лучше, боль проходит, проходит". И проходило. Так и теперь: "Ничего
особенного, обыкновенное письмо, волноваться не следует. Подумаешь, не
виделись пятьдесят пять лет!"
Асю Игумнову вспомнил сразу. И Пятнадцатую линию, дом с
граненым
выступом, ворота из железных прутьев. Вдруг обрадовался - пойти
рассказать
детям! Ведь интересно - через пятьдесят пять лет. Но тотчас сообразил, что
рассказывать нельзя, потому что поругались. Вчера тяжело и обидно
ругались, опять натолкнулся на непонимание, нет, не то - все понимают, но
делают вопреки пониманию. Того хуже, недомыслие. Недочувствие. Как
будто
других кровей. Рассказывать неохота ни Руське, ни Вере, ни свояченице,
никому. Была бы Галя жива.
Он взял письмо, еще раз прочитал, опять заколотилось сердце, и -
поскорее в ящик стола поглубже, под бумаги. Вчера затеялся гнусный
практический разговор. И странно: Вера и Руська, такие разные, спорящие
всегда обо всем, тут мгновенно сошлись. И с какой злобой набрасывались,
какие аргументы беспощадные выдвигали. Вера сказала: "Надоело наше
вечное
блаженное нищенство. Почему мы должны жить хуже всех, теснее всех,
жалчее
всех?" Руська грозил и пальцем тряс: "Имей в виду, на твоей совести будет
грех. Ты о душевном покое думаешь, а не о внуках. А ведь им жить, не нам с
тобой". Что-то о старческом эгоизме, несправедливое, отвратительное. Такой
дурак, такой безжалостный. Нет, простить нельзя. Вчера рукой махнул и
ушел, потому что говорить бесполезно. Ошибка, ошибка! Не вчера было, а
позавчера. Вчера пустой день. Ни с кем не разговаривал, сидел наверху, в
комнатке над верандой, временно свободной, потому что свояченица уехала
в
Москву получать пенсию и показаться врачам, и составлял ответ Гроздову
П.Ф., жителю Майкопа, который в длинном безграмотном письме
утверждал
архиглупость - будто станица Кашкинская взята в январе 1920 года, хотя
всем ведомо, что это произошло в феврале, а именно 3 февраля. Письмо
переслали из Совета ветеранов. Отвечать было трудно, мучился, подбирал
слова, а голова-то неспокойная и сердце болит из-за дураков, самые простые
слова пропадали. Вера поднималась, стучала сердито и с этаким вызовом: "В
чем дело? Почему ты не отзываешься? Нарочно нас нервируешь? Иди чай
пить".