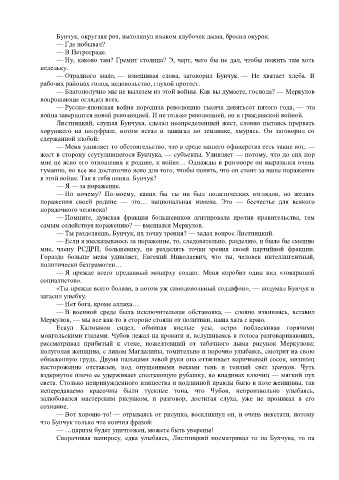Page 214 - Тихий Дон
P. 214
Бунчук, округляя рот, вытолкнул языком клубочек дыма, бросил окурок.
— Где побывал?
— В Петрограде.
— Ну, каково там? Гремит столица? Э, черт, чего бы не дал, чтобы пожить там хоть
недельку.
— Отрадного мало, — взвешивая слова, заговорил Бунчук. — Не хватает хлеба. В
рабочих районах голод, недовольство, глухой протест.
— Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа? — Меркулов
вопрошающе оглядел всех.
— Русско-японская война породила революцию тысяча девятьсот пятого года, — эта
война завершится новой революцией. И не только революцией, но и гражданской войной.
Листницкий, слушая Бунчука, сделал неопределенный жест, словно пытаясь прервать
хорунжего на полуфразе, потом встал и зашагал по землянке, хмурясь. Он заговорил со
сдержанной злобой:
— Меня удивляет то обстоятельство, что в среде нашего офицерства есть такие вот, —
жест в сторону ссутулившегося Бунчука, — субъекты. Удивляет — потому, что до сих пор
мне не ясно его отношения к родине, к войне… Однажды в разговоре он выразился очень
туманно, но все же достаточно ясно для того, чтобы понять, что он стоит за наше поражение
в этой войне. Так я тебя понял. Бунчук?
— Я — за поражение.
— Но почему? По-моему, каких бы ты ни был политических взглядов, но желать
поражения своей родине — это… национальная измена. Это — бесчестье для всякого
порядочного человека!
— Помните, думская фракция большевиков агитировала против правительства, тем
самым содействуя поражению? — вмешался Меркулов.
— Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения? — задал вопрос Листницкий.
— Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю, и было бы смешно
мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции.
Гораздо больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный,
политически безграмотен…
— Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид «товарищей
социалистов».
«Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон», — подумал Бунчук и
загасил улыбку.
— Нет бога, кроме аллаха…
— В военной среде была исключительная обстановка, — словно извиняясь, вставил
Меркулов, — мы все как-то в стороне стояли от политики, наша хата с краю.
Есаул Калмыков сидел, обминая вислые усы, остро поблескивая горячими
монгольскими глазами. Чубов лежал на кровати и, вслушиваясь в голоса разговаривающих,
рассматривал прибитый к стене, пожелтевший от табачного дыма рисунок Меркулова:
полуголая женщина, с лицом Магдалины, томительно и порочно улыбаясь, смотрит на свою
обнаженную грудь. Двумя пальцами левой руки она оттягивает коричневый сосок, мизинец
настороженно отставлен, под опущенными веками тень и теплый свет зрачков. Чуть
вздернутое плечо ее удерживает сползающую рубашку, во впадинах ключиц — мягкий пух
света. Столько непринужденного изящества и подлинной правды было в позе женщины, так
непередаваемо красочны были тусклые тона, что Чубов, непроизвольно улыбаясь,
залюбовался мастерским рисунком, и разговор, достигая слуха, уже не проникал в его
сознание.
— Вот хорошо-то! — отрываясь от рисунка, воскликнул он, и очень некстати, потому
что Бунчук только что кончил фразой:
— …царизм будет уничтожен, можете быть уверены!
Сворачивая папиросу, едва улыбаясь, Листницкий посматривал то на Бунчука, то на