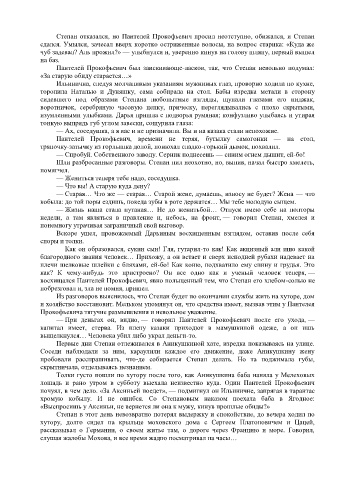Page 449 - Тихий Дон
P. 449
Степан отказался, но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан
сдался. Умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы, на вопрос старика: «Куда же
чуб задевал? Аль прожил?» — улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел
на баз.
Пантелей Прокофьевич был заискивающе-ласков, так, что Степан невольно подумал:
«За старую обиду старается…»
Ильинична, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне,
торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону
сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его пиджак,
воротничок, серебряную часовую цепку, прическу, переглядывались с плохо скрытыми,
изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья румяная; конфузливо улыбаясь и утирая
тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза:
— Ах, соседушка, а я вас и не призначила. Вы и на казака стали непохожие.
Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки — на стол,
тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил.
— Спробуй. Собственного заводу. Серник поднесешь — синим огнем дышит, ей-бо!
Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но, выпив, начал быстро хмелеть,
помягчел.
— Жениться теперя тебе надо, соседушка.
— Что вы! А старую куда дену?
— Старая… Что же — старая… Старой жене, думаешь, износу не будет? Жена — что
кобыла: до той поры ездишь, покеда зубы в роте держатся… Мы тебе молодую сыщем.
— Жизнь наша стала путаная… Не до женитьбой… Отпуск имею себе на полторы
недели, а там являться в правление и, небось, на фронт, — говорил Степан, хмелея и
понемногу утрачивая заграничный свой выговор.
Вскоре ушел, провожаемый Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя
споры и толки.
— Как он образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! Как акцизный али ишо какой
благородного звания человек… Прихожу, а он встает и сверх исподней рубахи надевает на
плечи шелковые шлейки с бляхами, ей-бо! Как коню, подхватило ему спину и грудья. Это
как? К чему-нибудь это пристроено? Он все одно как и ученый человек теперя, —
восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом-солью не
побрезговал и, зла не помня, пришел.
Из разговоров выяснилось, что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом
и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет, вызвав этим у Пантелея
Прокофьевича тягучие размышления и невольное уважение.
— При деньгах он, видно, — говорил Пантелей Прокофьевич после его ухода, —
капитал имеет, стерва. Из плену казаки приходют в мамушкиной одеже, а он ишь
выщелкнулся… Человека убил либо украл деньги-то.
Первые дни Степан отлеживался в Аникушкиной хате, изредка показываясь на улице.
Соседи наблюдали за ним, караулили каждое его движение, даже Аникушкину жену
пробовали расспрашивать, что-де собирается Степан делать. Но та поджимала губы,
скрытничала, отделываясь незнанием.
Толки густо пошли по хутору после того, как Аникушкина баба наняла у Мелеховых
лошадь и рано утром в субботу выехала неизвестно куда. Один Пантелей Прокофьевич
почуял, в чем дело. «За Аксиньей поедет», — подмигнул он Ильиничне, запрягая в тарантас
хромую кобылу. И не ошибся. Со Степановым наказом поехала баба в Ягодное:
«Выспросишь у Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды?»
Степан в этот день невозвратно потерял выдержку и спокойствие, до вечера ходил по
хутору, долго сидел на крыльце моховского дома с Сергеем Платоновичем и Цацей,
рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге через Францию и море. Говорил,
слушая жалобы Мохова, и все время жадно посматривал на часы…