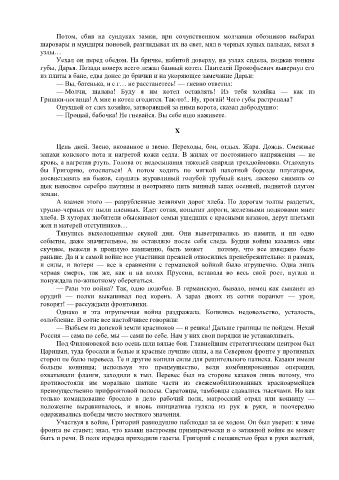Page 461 - Тихий Дон
P. 461
Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал
шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в
узлы…
Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие
губы, Дарья. Позади поверх всего лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его
из плиты в бане, едва донес до брички и на укоряющее замечание Дарьи:
— Вы, батенька, и с г… не расстанетесь! — гневно ответил:
— Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка — как из
Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы растрепала?
Опухшей от слез хозяйке, затворявшей за ними ворота, сказал добродушно:
— Прощай, бабочка! Не гневайся. Вы себе ишо наживете.
X
Цепь дней. Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. Дождь. Смежные
запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения — не
кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть
бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем,
посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со
щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом
земли.
А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлеба. По дорогам толпы раздетых,
трупно-черных от пыли пленных. Идет сотня, копытит дороги, железными подковами мнет
хлеба. В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с красными казаков, дерут плетьми
жен и матерей отступников…
Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из памяти, и ни одно
событие, даже значительное, не оставляло после себя следа. Будни войны казались еще
скучнее, нежели в прошлую кампанию, быть может — потому, что все изведано было
раньше. Да и к самой войне все участники прежней относились пренебрежительно: и размах,
и силы, и потери — все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь
черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и
понуждала по-животному оберегаться.
— Рази это война? Так, одно подобие. В германскую, бывало, немец как сыпанет из
орудий — полки выкашивал под корень. А зараз двоих из сотни поранют — урон,
говорят! — рассуждали фронтовики.
Однако и эта игрушечная война раздражала. Копились недовольство, усталость,
озлобление. В сотне все настойчивее говорили:
— Выбьем из донской земли краснюков — и решка! Дальше границы не пойдем. Нехай
Россия — сама по себе, мы — сами по себе. Нам у них свои порядки не устанавливать.
Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стратегическим центром был
Царицын, туда бросали и белые и красные лучшие силы, а на Северном фронте у противных
сторон не было перевеса. Те и другие копили силы для решительного натиска. Казаки имели
больше конницы; используя это преимущество, вели комбинированные операции,
охватывали фланги, заходили в тыл. Перевес был на стороне казаков лишь потому, что
противостояли им морально шаткие части из свежемобилизованных красноармейцев
преимущественно прифронтовой полосы. Саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами. Но как
только командование бросало в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу —
положение выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и поочередно
одерживались победы чисто местного значения.
Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее ходом. Он был уверен: к зиме
фронта не станет; знал, что казаки настроены примиренчески и о затяжной войне не может
быть и речи. В полк изредка приходили газеты. Григорий с ненавистью брал в руки желтый,