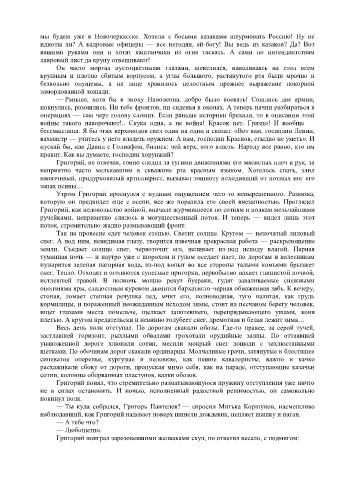Page 464 - Тихий Дон
P. 464
мы будем уже в Новочеркасске. Хотели с босыми казаками штурмовать Россию! Ну не
идиоты ли? А кадровые офицеры — все негодяи, ей-богу! Вы ведь из казаков? Да? Вот
вашими руками они и хотят каштанчики из огня таскать. А сами по интендантствам
лавровый лист да крупу отвешивают!
Он часто моргал пустоцветными глазами, шевелился, наваливаясь на стол всем
крупным и плотно сбитым корпусом, а углы большого, растянутого рта были мрачно и
безвольно опущены, а на лице хранилось целостным прежнее выражение покорной
замордованной лошади.
— Раньше, хотя бы в эпоху Наполеона, добро было воевать! Сошлись две армии,
цокнулись, разошлись. Ни тебе фронтов, ни сиденья в окопах. А теперь начни разбираться в
операциях — сам черт голову сломит. Если раньше историки брехали, то в описании этой
войны такого наворочают!.. Скука одна, а не война! Красок нет. Грязцо! И вообще —
бессмыслица. Я бы этих верховодов свел один на один и сказал: «Вот вам, господин Ленин,
вахмистр — учитесь у него владеть оружием. А вам, господин Краснов, стыдно не уметь». И
пускай бы, как Давид с Голиафом, бились: чей верх, того власть. Народу все равно, кто им
правит. Как вы думаете, господин хорунжий?
Григорий, не отвечая, сонно следил за тугими движениями его мясистых плеч и рук, за
неприятно часто мелькавшим в скважине рта красным языком. Хотелось спать, злил
навязчивый, придурковатый артиллерист, вызывал тошноту исходивший от потных ног его
запах псины…
Утром Григорий проснулся с нудным ощущением чего-то невырешенного. Развязка,
которую он предвидел еще с осени, все же поразила его своей внезапностью. Проглядел
Григорий, как недовольство войной, вначале журчившееся по сотням и полкам мельчайшими
ручейками, неприметно слилось в могущественный поток. И теперь — видел лишь этот
поток, стремительно-жадно размывающий фронт.
Так на провесне едет человек степью. Светит солнце. Кругом — непочатый лиловый
снег. А под ним, невидимая глазу, творится извечная прекрасная работа — раскрепощение
земли. Съедает солнце снег, червоточит его, наливает из-под исподу влагой. Парная
туманная ночь — и наутро уже с шорохом и гулом оседает наст, по дорогам и колесникам
пузырится зеленая нагорная вода, из-под копыт во все стороны талыми комьями брызжет
снег. Тепло. Отходят и оголяются супесные пригорки, первобытно пахнет глинистой почвой,
истлевшей травой. В полночь мощно ревут буераки, гудят заваливаемые снежными
оползнями яры, сладостным куревом дымится бархатисто-черная обнаженная зябь. К вечеру,
стоная, ломает степная речушка лед, мчит его, полноводная, туго налитая, как грудь
кормилицы, и пораженный неожиданным исходом зимы, стоит на песчаном берегу человек,
ищет глазами места помельче, щелкает запотевшего, перепрядывающего ушами, коня
плетью. А кругом предательски и невинно голубеет снег, дремотная и белая лежит зима…
Весь день полк отступал. По дорогам скакали обозы. Где-то правее, за серой тучей,
застлавшей горизонт, рыхлыми обвалами грохотали орудийные залпы. По оттаявшей
унавоженной дороге хлюпали сотни, месили мокрый снег лошади с захлюстанными
щетками. По обочинам дорог скакали ординарцы. Молчаливые грачи, затянутые в блестящее
синеватое оперенье, кургузые и неловкие, как пешие кавалеристы, важно и качко
расхаживали сбоку от дороги, пропуская мимо себя, как на параде, отступающие казачьи
сотни, колонны оборванных пластунов, валки обозов.
Григорий понял, что стремительно разматывающуюся пружину отступления уже ничто
не в силах остановить. И ночью, исполненный радостной решимостью, он самовольно
покинул полк.
— Ты куда собрался, Григорь Пантелев? — спросил Митька Коршунов, насмешливо
наблюдавший, как Григорий надевает поверх шинели дождевик, цепляет шашку и наган.
— А тебе что?
— Любопытно.
Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул, но ответил весело, с подмигом: