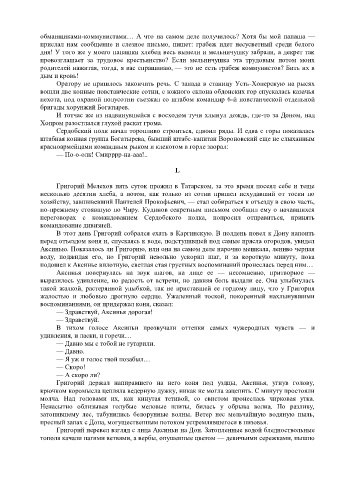Page 578 - Тихий Дон
P. 578
обманщиками-коммунистами… А что на самом деле получилось? Хотя бы мой папаша —
прислал нам сообщение и слезное письмо, пишет: грабеж идет несусветный среди белого
дня! У того же у моего папашки хлебец весь вымели и мельничушку забрали, а декрет так
провозглашает за трудовое крестьянство? Если мельничушка эта трудовым потом моих
родителей нажитая, тогда, я вас спрашиваю, — это не есть грабеж коммунистов? Бить их в
дым и кровь!
Оратору не пришлось закончить речь. С запада в станицу Усть-Хоперскую на рысях
вошли две конные повстанческие сотни, с южного склона обдонских гор спускалась казачья
пехота, под охраной полусотни съезжал со штабом командир 6-й повстанческой отдельной
бригады хорунжий Богатырев.
И тотчас же из надвинувшейся с восходом тучи хлынул дождь, где-то за Доном, над
Хопром разостлался глухой раскат грома.
Сердобский полк начал торопливо строиться, сдвоил ряды. И едва с горы показалась
штабная конная группа Богатырева, бывший штабс-капитан Вороновский еще не слыханным
красноармейцами командным рыком и клекотом в горле заорал:
— По-о-олк! Смирррр-на-ааа!..
L
Григорий Мелехов пять суток прожил в Татарском, за это время посеял себе и теще
несколько десятин хлеба, а потом, как только из сотни пришел исхудавший от тоски по
хозяйству, завшивевший Пантелей Прокофьевич, — стал собираться к отъезду в свою часть,
по-прежнему стоявшую по Чиру. Кудинов секретным письмом сообщил ему о начавшихся
переговорах с командованием Сердобского полка, попросил отправиться, принять
командование дивизией.
В этот день Григорий собрался ехать в Каргинскую. В полдень повел к Дону напоить
перед отъездом коня и, спускаясь к воде, подступившей под самые прясла огородов, увидел
Аксинью. Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая
воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг, и за короткую минуту, пока
подошел к Аксинье вплотную, светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним…
Аксинья повернулась на звук шагов, на лице ее — несомненно, притворное —
выразилось удивление, но радость от встречи, но давняя боль выдали ее. Она улыбнулась
такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория
жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими
воспоминаниями, он придержал коня, сказал:
— Здравствуй, Аксинья дорогая!
— Здравствуй.
В тихом голосе Аксиньи прозвучали оттенки самых чужеродных чувств — и
удивления, и ласки, и горечи…
— Давно мы с тобой не гутарили.
— Давно.
— Я уж и голос твой позабыл…
— Скоро!
— А скоро ли?
Григорий держал напиравшего на него коня под уздцы, Аксинья, угнув голову,
крючком коромысла цепляла ведерную дужку, никак не могла зацепить. С минуту простояли
молча. Над головами их, как кинутая тетивой, со свистом пронеслась чирковая утка.
Ненасытно облизывая голубые меловые плиты, билась у обрыва волна. По разливу,
затопившему лес, табунились белорунные волны. Ветер нес мельчайшую водяную пыль,
пресный запах с Дона, могущественным потоком устремлявшегося в низовья.
Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи на Дон. Затопленные водой бледноствольные
тополя качали нагими ветвями, а вербы, опушенные цветом — девичьими сережками, пышно