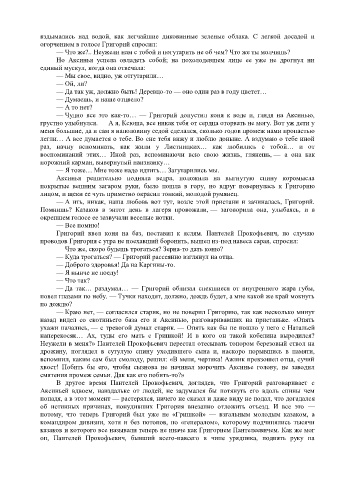Page 579 - Тихий Дон
P. 579
вздымались над водой, как легчайшие диковинные зеленые облака. С легкой досадой и
огорчением в голосе Григорий спросил:
— Что же?.. Неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?
Но Аксинья успела овладеть собой; на похолодевшем лице ее уже не дрогнул ни
единый мускул, когда она отвечала:
— Мы свое, видно, уж отгутарили…
— Ой, ли?
— Да так уж, должно быть! Деревцо-то — оно один раз в году цветет…
— Думаешь, и наше отцвело?
— А то нет?
— Чудно все это как-то… — Григорий допустил коня к воде и, глядя на Аксинью,
грустно улыбнулся. — А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у
меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропастью
легли… А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю доныне. А вздумаю о тебе иной
раз, начну вспоминать, как жили у Листницких… как любились с тобой… и от
воспоминаний этих… Иной раз, вспоминаючи всю свою жизнь, глянешь, — а она как
порожний карман, вывернутый наизнанку…
— Я тоже… Мне тоже надо идтить… Загутарились мы.
Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла
покрытые вешним загаром руки, было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию
лицом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий, молодой румянец.
— А ить, никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась, Григорий.
Помнишь? Казаков в энтот день в лагеря провожали, — заговорила она, улыбаясь, и в
окрепшем голосе ее зазвучали веселые нотки.
— Все помню!
Григорий ввел коня на баз, поставил к яслям. Пантелей Прокофьевич, по случаю
проводов Григория с утра не поехавший боронить, вышел из-под навеса сарая, спросил:
— Что же, скоро будешь трогаться? Зерна-то дать коню?
— Куда трогаться? — Григорий рассеянно взглянул на отца.
— Доброго здоровья! Да на Каргины-то.
— Я нынче не поеду!
— Что так?
— Да так… раздумал… — Григорий облизал спекшиеся от внутреннего жара губы,
повел глазами по небу. — Тучки находят, должно, дождь будет, а мне какой же край мокнуть
по дождю?
— Краю нет, — согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут
назад видел со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять
ухажи начались, — с тревогой думал старик. — Опять как бы не пошло у него с Натальей
наперекосяк… Ах, туды его мать с Гришкой! И в кого он такой кобелина выродился?
Неужели в меня?» Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором березовый ствол на
дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, наскоро порывшись в памяти,
вспомнил, каким сам был смолоду, решил: «В меня, чертяка! Ажник превзошел отца, сучий
хвост! Побить бы его, чтобы сызнова не начинал морочить Аксинье голову, не заводил
смятения промеж семьи. Дак как его побить-то?»
В другое время Пантелей Прокофьевич, доглядев, что Григорий разговаривает с
Аксиньей вдвоем, наиздальке от людей, не задумался бы потянуть его вдоль спины чем
попадя, а в этот момент — растерялся, ничего не сказал и даже виду не подал, что догадался
об истинных причинах, понудивших Григория внезапно отложить отъезд. И все это —
потому, что теперь Григорий был уже не «Гришкой» — взгальным молодым казаком, а
командиром дивизии, хотя и без потопов, но «генералом», которому подчинялись тысячи
казаков и которого все называли теперь не иначе как Григорием Пантелеевичем. Как же мог
он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего-навсего в чине урядника, поднять руку на