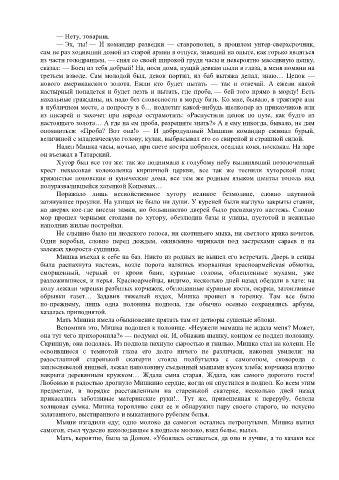Page 630 - Тихий Дон
P. 630
— Нету, товарищ.
— Эх, ты! — И командир разведки — ставрополец, в прошлом унтер-сверхсрочник,
сам не раз ходивший домой из старой армии в отпуск, знавший на опыте, как горько являться
из части голодранцем, — снял со своей широкой груди часы и невероятно массивную цепку,
сказал: — Боец из тебя добрый! На, носи дома, пущай девкам пыли в глаза, а меня помяни на
третьем взводе. Сам молодой был, девок портил, из баб вытяжа делал, знаю… Цепок —
нового американского золота. Ежли кто будет пытать — так и отвечай. А ежели какой
настырный попадется и будет лезть и пытать, где проба, — бей того прямо в морду! Есть
нахальные гражданы, их надо без словесности в морду бить. Ко мне, бывало, в трактире али
в публичном месте, а попросту в б… подлетит какой-нибудь щелкопер из приказчиков или
из писарей и захочет при народе острамотить: «Распустили цепок по пузе, как будто из
настоящего золота… А где на ем проба, разрешите знать?» А я ему никогда, бывало, не дам
опомниться: «Проба? Вот она!» — И добродушный Мишкин командир сжимал бурый,
величиной с младенческую голову, кулак, выбрасывал его со свирепой и страшной силой.
Надел Мишка часы, ночью, при свете костра побрился, оседлал коня, поскакал. На заре
он въезжал в Татарский.
Хутор был все тот же: так же поднимала к голубому небу вылинявший позолоченный
крест невысокая колоколенка кирпичной церкви, все так же теснили хуторской плац
кряжистые поповские и купеческие дома, все тем же родным языком шептал тополь над
полуразвалившейся хатенкой Кошевых…
Поражало лишь несвойственное хутору великое безмолвие, словно паутиной
затянувшее проулки. На улицах не было ни души. У куреней были наглухо закрыты ставни,
на дверях кое-где висели замки, но большинство дверей было распахнуто настежь. Словно
мор прошел черными стопами по хутору, обезлюдив базы и улицы, пустотой и нежилью
наполнив жилые постройки.
Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка, ни светлого крика кочетов.
Одни воробьи, словно перед дождем, оживленно чирикали под застрехами сараев и на
залежах хвороста-сушника.
Мишка въехал к себе на баз. Никто из родных не вышел его встречать. Дверь в сенцы
была распахнута настежь, возле порога валялись изорванная красноармейская обмотка,
сморщенный, черный от крови бинт, куриные головы, облепленные мухами, уже
разложившиеся, и перья. Красноармейцы, видимо, несколько дней назад обедали в хате: на
полу лежали черепки разбитых корчажек, обглоданные куриные кости, окурки, затоптанные
обрывки газет… Задавив тяжелый вздох, Мишка прошел в горенку. Там все было
по-прежнему, лишь одна половина подпола, где обычно осенью сохранялись арбузы,
казалась приподнятой.
Мать Мишки имела обыкновение прятать там от детворы сушеные яблоки.
Вспомнив это, Мишка подошел к половице. «Неужели мамаша не ждала меня? Может,
она тут чего прихоронила?» — подумал он. И, обнажив шашку, концом ее поддел половицу.
Скрипнув, она подалась. Из подпола пахнуло сыростью и гнилью. Мишка стал на колени. Не
освоившиеся с темнотой глаза его долго ничего не различали, наконец увидели: на
разостланной старенькой скатерти стояла полбутылка с самогоном, сковорода с
заплесневелой яишней, лежал наполовину съеденный мышами кусок хлеба; корчажка плотно
накрыта деревянным кружком… Ждала сына старая. Ждала, как самого дорогого гостя!
Любовью и радостью дрогнуло Мишкино сердце, когда он спустился в подпол. Ко всем этим
предметам, в порядке расставленным на старенькой скатерке, несколько дней назад
прикасались заботливые материнские руки!.. Тут же, привешенная к перерубу, белела
холщовая сумка. Мишка торопливо снял ее и обнаружил пару своего старого, но искусно
залатанного, выстиранного и выкатанного рубелем белья.
Мыши изгадили еду; одно молоко да самогон остались нетронутыми. Мишка выпил
самогон, съел чудесно нахолодавшее в подполе молоко, взял белье, вылез.
Мать, вероятно, была за Доном. «Убоялась оставаться, да оно и лучше, а то казаки все