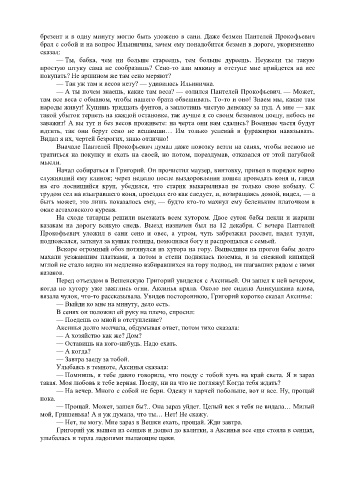Page 754 - Тихий Дон
P. 754
брезент и в одну минуту могло быть уложено в сани. Даже безмен Пантелей Прокофьевич
брал с собой и на вопрос Ильиничны, зачем ему понадобится безмен в дороге, укоризненно
сказал:
— Ты, бабка, чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь. Неужели ты такую
простую штуку сама не сообразишь? Сено-то али мякину в отступе мне прийдется на вес
покупать? Не аршином же там сено меряют?
— Так уж там и весов нету? — удивилась Ильинична.
— А ты почем знаешь, какие там веса? — озлился Пантелей Прокофьевич. — Может,
там все веса с обманом, чтобы нашего брата обвешивать. То-то и оно! Знаем мы, какие там
народы живут! Купишь тридцать фунтов, а заплотишь чистую денежку за пуд. А мне — как
такой убыток терпеть на каждой остановке, так лучше я со своим безменом поеду, небось не
заважит! А вы тут и без весов проживете: на черта они вам сдались? Военные частя будут
идтить, так они берут сено не вешамши… Им только успевай в фуражирки навязывать.
Видал я их, чертей безрогих, знаю отлично!
Вначале Пантелей Прокофьевич думал даже повозку везти на санях, чтобы весною не
тратиться на покупку и ехать на своей, но потом, пораздумав, отказался от этой пагубной
мысли.
Начал собираться и Григорий. Он прочистил маузер, винтовку, привел в порядок верно
служивший ему клинок; через неделю после выздоровления пошел проведать коня и, глядя
на его лоснящийся круп, убедился, что старик выкармливал не только свою кобылу. С
трудом сел на взыгравшего коня, проездил его как следует, и, возвращаясь домой, видел, — а
быть может, это лишь показалось ему, — будто кто-то махнул ему беленьким платочком в
окне астаховского куреня.
На сходе татарцы решили выезжать всем хутором. Двое суток бабы пекли и жарили
казакам на дорогу всякую снедь. Выезд назначен был на 12 декабря. С вечера Пантелей
Прокофьевич уложил в сани сено и овес, а утром, чуть забрезжил рассвет, надел тулуп,
подпоясался, заткнул за кушак голицы, помолился богу и распрощался с семьей.
Вскоре огромный обоз потянулся из хутора на гору. Вышедшие на прогон бабы долго
махали уезжавшим платками, а потом в степи поднялась поземка, и за снежной кипящей
мглой не стало видно ни медленно взбиравшихся на гору подвод, ни шагавших рядом с ними
казаков.
Перед отъездом в Вешенскую Григорий увиделся с Аксиньей. Он зашел к ней вечером,
когда по хутору уже зажглись огни. Аксинья пряла. Около нее сидела Аникушкина вдова,
вязала чулок, что-то рассказывала. Увидев постороннюю, Григорий коротко сказал Аксинье:
— Выйди ко мне на минуту, дело есть.
В сенях он положил ей руку на плечо, спросил:
— Поедешь со мной в отступление?
Аксинья долго молчала, обдумывая ответ, потом тихо сказала:
— А хозяйство как же? Дом?
— Оставишь на кого-нибудь. Надо ехать.
— А когда?
— Завтра заеду за тобой.
Улыбаясь в темноте, Аксинья сказала:
— Помнишь, я тебе давно говорила, что поеду с тобой хучь на край света. Я и зараз
такая. Моя любовь к тебе верная. Поеду, ни на что не погляжу! Когда тебя ждать?
— На вечер. Много с собой не бери. Одежу и харчей побольше, вот и все. Ну, прощай
пока.
— Прощай. Может, зашел бы?.. Она зараз уйдет. Целый век я тебя не видала… Милый
мой, Гришенька! А я уж думала, что ты… Нет! Не скажу.
— Нет, не могу. Мне зараз в Вешки ехать, прощай. Жди завтра.
Григорий уж вышел из сенцев и дошел до калитки, а Аксинья все еще стояла в сенцах,
улыбалась и терла ладонями пылающие щеки.