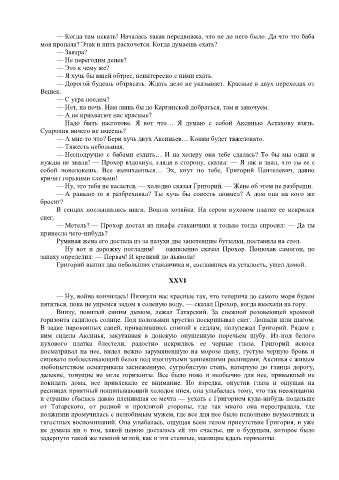Page 758 - Тихий Дон
P. 758
— Когда там искать! Началась такая передвижка, что не до него было. Да что это баба
моя пропала? Этак и пить расхочется. Когда думаешь ехать?
— Завтра?
— Не перегодим денек?
— Это к чему же?
— Я хучь бы вшей обтрес, неинтересно с ними ехать.
— Дорогой будешь обтрясать. Ждать дело не указывает. Красные в двух переходах от
Вешек.
— С утра поедем?
— Нет, на ночь. Нам лишь бы до Каргинской добраться, там и заночуем.
— А не прихватют нас красные?
— Надо быть насготове. Я вот что… Я думаю с собой Аксинью Астахову взять.
Супротив ничего не имеешь?
— А мне-то что? Бери хучь двух Аксиньев… Коням будет тяжеловато.
— Тяжесть небольшая.
— Несподручно с бабами ездить… И на холеру она тебе сдалась? То бы мы одни и
нужды не знали! — Прохор вздохнул, глядя в сторону, сказал: — Я так и знал, что ты ее с
собой поволокешь. Все женихаешься… Эх, кнут по тебе, Григорий Пантелевич, давно
кричит горькими слезьми!
— Ну, это тебя не касается, — холодно сказал Григорий. — Жене об этом не разбреши.
— А раньше-то я разбрехивал? Ты хучь бы совесть поимел? А дом она на кого же
бросит?
В сенцах послышались шаги. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился
снег.
— Метель? — Прохор достал из шкафа стаканчики и только тогда спросил: — Да ты
принесла чего-нибудь?
Румяная жена его достала из-за пазухи две запотевшие бутылки, поставила на стол.
— Ну вот и дорожку погладим! — оживленно сказал Прохор. Понюхав самогон, по
запаху определил: — Первач! И крепкий до дьявола!
Григорий выпил два небольших стаканчика и, сославшись на усталость, ушел домой.
XXVI
— Ну, война кончилась! Пихнули нас красные так, что теперича до самого моря будем
пятиться, пока не упремся задом в соленую воду, — сказал Прохор, когда выехали на гору.
Внизу, повитый синим дымом, лежал Татарский. За снежной розовеющей кромкой
горизонта садилось солнце. Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом.
В задке пароконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий. Рядом с
ним сидела Аксинья, закутанная в донскую опушенную поречьем шубу. Из-под белого
пухового платка блестели, радостно искрились ее черные глаза. Григорий искоса
посматривал на нее, видел нежно зарумяневшую на морозе щеку, густую черную бровь и
синевато поблескивающий белок под изогнутыми заиневшими ресницами. Аксинья с живым
любопытством осматривала заснеженную, сугробистую степь, натертую до глянца дорогу,
далекие, тонущие во мгле горизонты. Все было ново и необычно для нее, привыкшей не
покидать дома, все привлекало ее внимание. Но изредка, опустив глаза и ощущая на
ресницах приятный пощипывающий холодок инея, она улыбалась тому, что так неожиданно
и странно сбылась давно пленившая ее мечта — уехать с Григорием куда-нибудь подальше
от Татарского, от родной и проклятой стороны, где так много она перестрадала, где
полжизни промучилась с нелюбимым мужем, где все для нее было исполнено неумолчных и
тягостных воспоминаний. Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и уже
не думала ни о том, какой ценою досталось ей это счастье, ни о будущем, которое было
задернуто такой же темной мглой, как и эти степные, манящие вдаль горизонты.