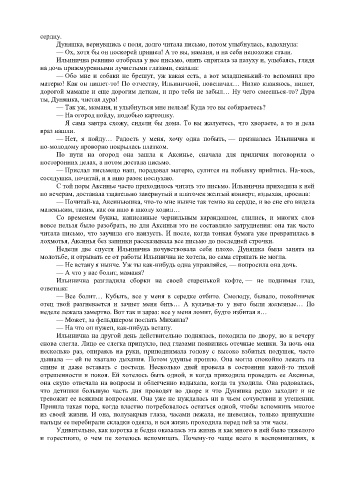Page 796 - Тихий Дон
P. 796
сердцу.
Дуняшка, вернувшись с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула:
— Ох, хотя бы он поскорей пришел! А то вы, маманя, и на себя непохожи стали.
Ильинична ревниво отобрала у нее письмо, опять спрятала за пазуху и, улыбаясь, глядя
на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала:
— Обо мне и собаки не брешут, уж какая есть, а вот младшенький-то вспомнил про
матерю! Как он пишет-то! По отчеству, Ильиничной, повеличал… Низко кланяюсь, пишет,
дорогой мамаше и еще дорогим деткам, и про тебя не забыл… Ну чего смеешься-то? Дура
ты, Дуняшка, чистая дура!
— Так уж, маманя, и улыбнуться мне нельзя! Куда это вы собираетесь?
— На огород пойду, подобью картошку.
— Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела
враз нашли.
— Нет, я пойду… Радость у меня, хочу одна побыть, — призналась Ильинична и
по-молодому проворно покрылась платком.
По пути на огород она зашла к Аксинье, сначала для приличия поговорила о
посторонних делах, а потом достала письмо.
— Прислал письмецо наш, порадовал матерю, сулится на побывку прийтись. На-кось,
соседушка, почитай, и я ишо разок послухаю.
С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней
по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая, просила:
— Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на сердце, и во сне его видела
маленьким, таким, как он ишо в школу ходил…
Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов
вовсе нельзя было разобрать, но для Аксиньи это не составляло затруднения: она так часто
читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в
лохмотья, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки.
Недели две спустя Ильинична почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на
молотьбе, и отрывать ее от работы Ильинична не хотела, но сама стряпать не могла.
— Не встану я нынче. Уж ты как-нибудь одна управляйся, — попросила она дочь.
— А что у вас болит, маманя?
Ильинична разгладила сборки на своей старенькой кофте, — не поднимая глаз,
ответила:
— Все болит… Кубыть, все у меня в середке отбито. Смолоду, бывало, покойничек
отец твой разгневается и зачнет меня бить… А кулачья-то у него были железные… По
неделе лежала замертво. Вот так и зараз: все у меня ломит, будто избитая я…
— Может, за фельдшером послать Михаила?
— На что он нужен, как-нибудь встану.
Ильинична на другой день действительно поднялась, походила по двору, но к вечеру
снова слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она
несколько раз, опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек, часто
дышала — ей не хватало дыхания. Потом удушье прошло. Она могла спокойно лежать на
спине и даже вставать с постели. Несколько дней провела в состоянии какой-то тихой
отрешенности и покоя. Ей хотелось быть одной, и когда приходила проведать ее Аксинья,
она скупо отвечала на вопросы и облегченно вздыхала, когда та уходила. Она радовалась,
что детишки большую часть дня проводят во дворе и что Дуняшка редко заходит и не
тревожит ее всякими вопросами. Она уже не нуждалась ни в чьем сочувствии и утешении.
Пришла такая пора, когда властно потребовалось остаться одной, чтобы вспомнить многое
из своей жизни. И она, полузакрыв глаза, часами лежала, не шевелясь, только припухшие
пальцы ее перебирали складки одеяла, и вся жизнь проходила перед ней за эти часы.
Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь и как много в ней было тяжелого
и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в