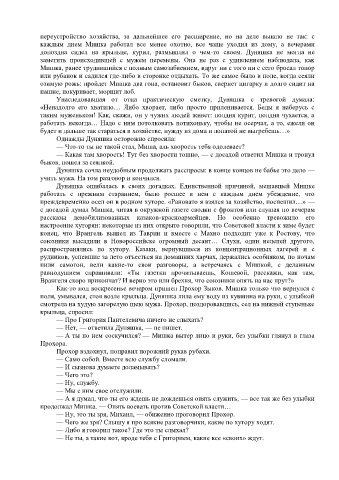Page 799 - Тихий Дон
P. 799
переустройство хозяйства, за дальнейшее его расширение, но на деле вышло не так: с
каждым днем Мишка работал все менее охотно, все чаще уходил из дому, а вечерами
допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Дуняшка не могла не
заметить происходившей с мужем перемены. Она не раз с удивлением наблюдала, как
Мишка, ранее трудившийся с полным самозабвением, вдруг ни с того ни с сего бросал топор
или рубанок и садился где-либо в сторонке отдыхать. То же самое было в поле, когда сеяли
озимую рожь: пройдет Мишка два гона, остановит быков, свернет цигарку и долго сидит на
пашне, покуривает, морщит лоб.
Унаследовавшая от отца практическую сметку, Дуняшка с тревогой думала:
«Ненадолго его хватило… Либо хворает, либо просто приленивается. Беды я наберусь с
таким муженьком! Как, скажи, он у чужих людей живет: полдня курит, полдня чухается, а
работать некогда… Надо с ним потолковать потихоньку, чтобы не осерчал, а то, ежели он
будет и дальше так стараться в хозяйстве, нужду из дома и лопатой не выгребешь…»
Однажды Дуняшка осторожно спросила:
— Что-то ты не такой стал, Миша, аль хворость тебя одолевает?
— Какая там хворость! Тут без хворости тошно, — с досадой ответил Мишка и тронул
быков, пошел за сеялкой.
Дуняшка сочла неудобным продолжать расспросы: в конце концов не бабье это дело —
учить мужа. На том разговор и кончился.
Дуняшка ошибалась в своих догадках. Единственной причиной, мешавшей Мишке
работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что
преждевременно осел он в родном хуторе. «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил…» —
с досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам
рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его
настроение хуторян: некоторые из них открыто говорили, что Советской власти к зиме будет
конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что
союзники высадили в Новороссийске огромный десант… Слухи, один нелепей другого,
распространялись по хутору. Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и с
рудников, успевшие за лето отъесться на домашних харчах, держались особняком, по ночам
пили самогон, вели какие-то свои разговоры, а встречаясь с Мишкой, с деланным
равнодушием спрашивали: «Ты газетки прочитываешь, Кошевой, расскажи, как там,
Врангеля скоро прикончат? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?»
Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков. Мишка только что вернулся с
поля, умывался, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой
смотрела на худую загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке
крыльца, спросил:
— Про Григория Пантелевича ничего не слыхать?
— Нет, — ответила Дуняшка, — не пишет.
— А ты по нем соскучился? — Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза
Прохора.
Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи.
— Само собой. Вместе всю службу сломали.
— И сызнова думаете доламывать?
— Чего это?
— Ну, службу.
— Мы с ним свое отслужили.
— А я думал, что ты его ждешь не дождешься опять служить, — все так же без улыбки
продолжал Мишка. — Опять воевать против Советской власти…
— Ну, это ты зря, Михаил, — обиженно проговорил Прохор.
— Чего же зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по хутору ходят.
— Либо я говорил такое? Где это ты слыхал?
— Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие все «своих» ждут.