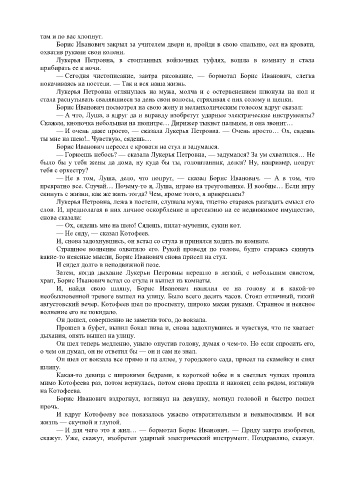Page 233 - Избранное
P. 233
там и по вас хлопнут.
Борис Иванович закрыл за учителем двери и, пройдя в свою спальню, сел на кровати,
охватив руками свои колени.
Лукерья Петровна, в стоптанных войлочных туфлях, вошла в комнату и стала
прибирать ее к ночи.
— Сегодня чистописание, завтра рисование, — бормотал Борис Иванович, слегка
покачиваясь на постели. — Так и вся наша жизнь.
Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и
стала распутывать свалявшиеся за день свои волосы, стряхивая с них солому и щепки.
Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:
— А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут ударные электрические инструменты?
Скажем, кнопочка небольшая на пюпитре… Дирижер тыкнет пальцем, и она звонит…
— И очень даже просто, — сказала Лукерья Петровва. — Очень просто… Ох, сядешь
ты мне на шею!.. Чувствую, сядешь…
Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.
— Горюешь небось? — сказала Лукерья Петровна, — задумался? За ум схватился… Не
было бы у тебя жены да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут
тебя с оркестру?
— Не в том, Луша, дело, что попрут, — сказал Борис Иванович. — А в том, что
превратно все. Случай… Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще… Если игру
скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?
Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его
слов. И, предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество,
снова сказала:
— Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, пилат-мученик, сукин кот.
— Не сяду, — сказал Котофеев.
И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.
Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть
какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.
И сидел долго в неподвижной позе.
Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом,
храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.
И, найдя свою шляпу, Борис Иванович напялил ее на голову и в какой-то
необыкновенной тревоге вышел на улицу. Было всего десять часов. Стоял отличный, тихий
августовский вечер. Котофеев шел по проспекту, широко махая руками. Странное и неясное
волнение его не покидало.
Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.
Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает
дыхания, опять вышел на улицу.
Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его,
о чем он думал, он не ответил бы — он и сам не знал.
Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял
шляпу.
Какая-то девица с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках прошла
мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и наконец села рядом, взглянув
на Котофеева.
Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел
прочь.
И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся
жизнь — скучной и глупой.
— И для чего это я жил… — бормотал Борис Иванович. — Приду завтра изобретен,
скажут. Уже, скажут, изобретен ударный электрический инструмент. Поздравляю, скажут.