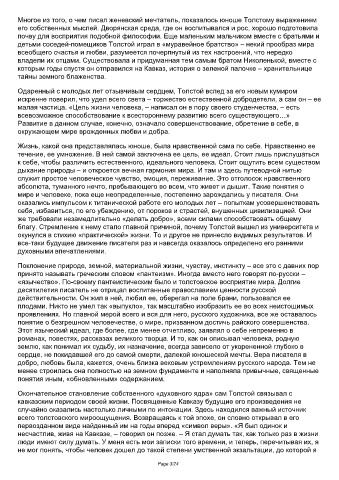Page 3 - Кавказский пленник
P. 3
Многое из того, о чем писал женевский мечтатель, показалось юноше Толстому выражением
его собственных мыслей. Дворянская среда, где он воспитывался и рос, хорошо подготовила
почву для восприятия подобной философии. Еще маленьким мальчиком вместе с братьями и
детьми соседей-помещиков Толстой играл в «муравейное братство» – некий прообраз мира
всеобщего счастья и любви, разумеется почерпнутый из тех настроений, что нередко
владели их отцами. Существовала и придуманная тем самым братом Николенькой, вместе с
которым годы спустя он отправился на Кавказ, история о зеленой палочке – хранительнице
тайны земного блаженства.
Одаренный с молодых лет отзывчивым сердцем, Толстой вслед за его новым кумиром
искренне поверил, что удел всего света – торжество естественной добродетели, а сам он – ее
малая частица. «Цель жизни человека, – написал он в пору своего студенчества, – есть
всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего…»
Развитие в данном случае, конечно, означало совершенствование, обретение в себе, в
окружающем мире врожденных любви и добра.
Жизнь, какой она представлялась юноше, была нравственной сама по себе. Нравственно ее
течение, ее умножение. В ней самой заключена ее цель, ее идеал. Стоит лишь прислушаться
к себе, чтобы различить естественного, идеального человека. Стоит ощутить всем существом
дыхание природы – и откроется вечная гармония мира. И там и здесь путеводной нитью
служит простое человеческое чувство, эмоция, переживание. Это отголосок нравственного
абсолюта, туманного нечто, пребывающего во всем, что живет и дышит. Такие понятия о
мире и человеке, пока еще неопределенные, постепенно зарождались у писателя. Они
оказались импульсом к титанической работе его молодых лет – попыткам усовершенствовать
себя, избавиться, по его убеждению, от пороков и страстей, внушенных цивилизацией. Они
же требовали незамедлительно «делать добро», всеми силами способствовать общему
благу. Стремление к нему стало главной причиной, почему Толстой вышел из университета и
окунулся в стихию «практической» жизни. То и другое не принесло видимых результатов. И
все-таки будущее движение писателя раз и навсегда оказалось определено его ранними
духовными впечатлениями.
Поклонение природе, земной, материальной жизни, чувству, инстинкту – все это с давних пор
принято называть греческим словом «пантеизм». Иногда вместо него говорят по-русски –
«язычество». По-своему пантеистическим было и толстовское восприятие мира. Долгие
десятилетия писатель не отрицал воспитанные православием ценности русской
действительности. Он жил в ней, любил ее, оберегал на поле брани, пользовался ее
плодами. Никто не умел так «выпукло», так масштабно изобразить ее во всех неистощимых
проявлениях. Но главной мерой всего и вся для него, русского художника, все же оставалось
понятие о безгрешном человечестве, о мире, призванном достичь райского совершенства.
Этот языческий идеал, где более, где менее отчетливо, заявлял о себе непременно в
романах, повестях, рассказах великого творца. И то, как он описывал человека, родную
землю, как понимал их судьбу, их назначение, всегда зависело от укорененной глубоко в
сердце, не покидавшей его до самой смерти, далекой юношеской мечты. Вера писателя в
добро, любовь была, кажется, очень близка вековым устремлениям русского народа. Тем не
менее строилась она полностью на земном фундаменте и наполняла привычные, священные
понятия иным, «обновленным» содержанием.
Окончательное становление собственного «духовного ядра» сам Толстой связывал с
кавказским периодом своей жизни. Посвященные Кавказу будущие его произведения не
случайно оказались настолько личными по интонации. Здесь находился важный источник
всего толстовского мироощущения. Возвращаясь к той эпохе, он словно открывал в его
первозданном виде найденный им на годы вперед «символ веры». «Я был одинок и
несчастлив, живя на Кавказе, – говорил он позже. – Я стал думать так, как только раз в жизни
люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я
не мог понять, чтобы человек дошел до такой степени умственной экзальтации, до которой я
Page 3/24