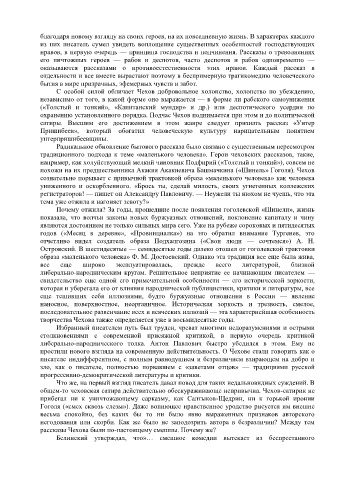Page 4 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 4
благодаря новому взгляду на своих героев, на их повседневную жизнь. В характерах каждого
из них писатель сумел увидеть воплощение существенных особенностей господствующих
нравов, в первую очередь — принципа господства и подчинения. Рассказы о треволнениях
его ничтожных героев — рабов и деспотов, часто деспотов и рабов одновременно —
оказываются рассказами о противоестественности этих нравов. Каждый рассказ в
отдельности и все вместе вырастают поэтому в беспримерную трагикомедию человеческого
бытия в мире призрачных, эфемерных чувств и забот.
С особой силой обличает Чехов добровольное холопство, холопство по убеждению,
независимо от того, в какой форме оно выражается — в форме ли рабского самоунижения
(«Толстый и тонкий», «Капитанский мундир» и др.) или деспотического усердия по
охранению установленного порядка. Подчас Чехов поднимается при этом и до политической
сатиры. Высшим его достижением в этом жанре следует признать рассказ «Унтер
Пришибеев», который обогатил человеческую культуру нарицательным понятием
унтерпришибеевщины.
Радикальное обновление бытового рассказа было связано с существенным пересмотром
традиционного подхода к теме «маленького человека». Герои чеховских рассказов, такие,
например, как холуйствующий мелкий чиновник Подфирий («Толстый и тонкий»), совсем не
похожи на их предшественника Акакия Акакиевича Башмачкина («Шинель» Гоголя). Чехов
сознательно порывает с привычной трактовкой образа «маленького человека» как человека
униженного и оскорбленного. «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских
регистраторов! — пишет он Александру Павловичу. — Неужели ты нюхом не чуешь, что эта
тема уже отжила и нагоняет зевоту?»
Почему отжила? За годы, прошедшие после появления гоголевской «Шинели», жизнь
показала, что волчьи законы новых буржуазных отношений, поклонение капиталу и чину
являются достоянием не только сильных мира сего. Уже на рубеже сороковых и пятидесятых
годов («Месяц в деревне», «Провинциалка») на это обратил внимание Тургенев, это
отчетливо видел создатель образа Подхалгозина («Свои люди — сочтемся») А. Н.
Островский. В шестидесятые — семидесятые годы далеко отошел от гоголевской трактовки
образа «маленького человека» Ф. М. Достоевский. Однако эта традиция все еще была жива,
все еще широко эксплуатировалась, прежде всего литературой, близкой
либерально-народническим кругам. Решительное неприятие ее начинающим писателем —
свидетельство еще одной его примечательной особенности — его исторической зоркости,
которая и уберегала его от влияния народнической публицистики, критики и литературы, все
еще тешивших себя иллюзиями, будто буржуазные отношения в России — явление
наносное, поверхностное, неорганичное. Историческая зоркость и трезвость, смелое,
последовательное развенчание всех и всяческих иллюзий — эта характернейшая особенность
творчества Чехова также определяется уже в восьмидесятые годы.
Избранный писателем путь был труден, чреват многими недоразумениями и острыми
столкновениями с современной присяжной критикой, в первую очередь критикой
либерально-народнического толка. Антон Павлович быстро убедился в этом. Ему не
простили нового взгляда на современную действительность. О Чехове стали говорить как о
писателе индифферентном, с полным равнодушием и безразличием взирающем на добро и
зло, как о писателе, полностью порвавшем с «заветами отцов» — традициями русской
прогрессивно-демократической литературы и критики.
Что же, на первый взгляд писатель давал повод для таких недальновидных суждений. В
общем-то чеховская сатира действительно обескураживающе непривычна. Чехов-сатирик не
прибегал ни к уничтожающему сарказму, как Салтыков-Щедрин, ни к горькой иронии
Гоголя («смех сквозь слезы»). Даже вопиющее нравственное уродство рисуется им внешне
весьма спокойно, без каких бы то ни было явно выраженных признаков авторского
негодования или скорби. Как же было не заподозрить автора в безразличии? Между тем
рассказы Чехова были по-настоящему смешны. Почему же?
Белинский утверждал, что»… смешное комедии вытекает из беспрестанного