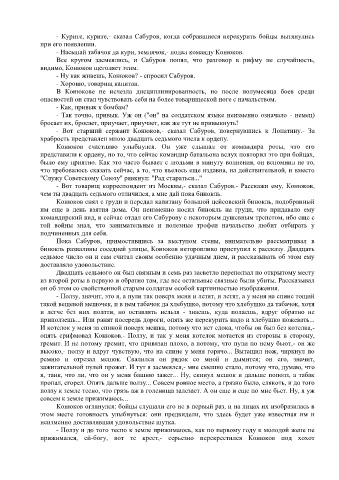Page 51 - Дни и ночи
P. 51
- Курите, курите,- сказал Сабуров, когда собравшиеся перекурить бойцы вытянулись
при его появлении.
- Насыпай табачок да кури, землячок,- подал команду Конюков.
Все кругом засмеялись, и Сабуров понял, что разговор в рифму не случайность,
видимо, Конюков щеголяет этим.
- Ну как живешь, Конюков? - спросил Сабуров.
- Хорошо, товарищ капитан.
В Конюкове не исчезла дисциплинированность, но после полумесяца боев среди
опасностей он стал чувствовать себя на более товарищеской ноге с начальством.
- Как, привык к бомбам?
- Так точно, привык. Уж он ("он" на солдатском языке неизменно означало - немец)
бросает их, бросает, приучает, приучает, как же тут не привыкнуть!
- Вот старший сержант Конюков,- сказал Сабуров, повернувшись к Лопатину.- За
храбрость представлен мною двадцать седьмого числа к ордену.
Конюков счастливо улыбнулся. Он уже слышал от командира роты, что его
представили к ордену, но то, что сейчас командир батальона вслух повторил это при бойцах,
было ему приятно. Как это часто бывает с людьми в минуту волнения, он вспомнил не то,
что требовалось сказать сейчас, а то, что въелось еще издавна, на действительной, и вместо
"Служу Советскому Союзу" рявкнул: "Рад стараться..."
- Вот товарищ корреспондент из Москвы,- сказал Сабуров.- Расскажи ему, Конюков,
чем ты двадцать седьмого отличился, а мне дай пока бинокль.
Конюков снял с груди и передал капитану большой цейсовский бинокль, подобранный
им еще в день взятия дома. Он неизменно носил бинокль на груди, что придавало ему
командирский вид, и сейчас отдал его Сабурову с некоторым душевным трепетом, ибо еще с
той войны знал, что занимательные и полезные трофеи начальство любит отбирать у
подчиненных для себя.
Пока Сабуров, примостившись за выступом стены, внимательно рассматривал в
бинокль развалины соседней улицы, Конюков неторопливо приступил к рассказу. Двадцать
седьмое число он и сам считал своим особенно удачным днем, и рассказывать об этом ему
доставляло удовольствие.
Двадцать седьмого он был связным и семь раз засветло переползал по открытому месту
из второй роты в первую и обратно там, где все остальные связные были убиты. Рассказывал
он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения.
- Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня и летят, и летят, а у меня на спине тощий
такой вещевой мешочек, и в нем табачок да хлебушко, потому что хлебушко да табачок, хотя
и легче без них ползти, но оставлять нельзя - знаешь, куда полаешь, вдруг обратно не
приползешь... Или ранят посередь дороги, опять же перекурить надо и хлебушко пожевать...
И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что нет едока, чтобы он был без котелка,-
опять срифмовал Конюков.- Ползу, и так у меня котелок мотается из стороны в сторону,
гремит. И не потому гремит, что привязан плохо, а потому, что пули по нему бьют,- он же
высоко,- ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо... Вытащил нож, чиркнул по
ремню и отрезал мешок. Свалился он рядок со мной и дымится; он его, значит,
зажигательной пулей прожег. И тут я засмеялся,- мне смешно стало, потому что, думаю, что
я, танк, что ли, что он у меня башню зажег... Ну, скинул мешок и дальше пополз, а табак
пропал, сгорел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того
ползу к земле тесно, что грязь аж в голенища залезает. А он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж
совсем к земле прижимаюсь...
Конюков оглянулся: бойцы слушали его не в первый раз, и на лицах их изобразилась в
этом месте готовность улыбнуться: они предвидели, что здесь будет уже известная им и
неизменно доставлявшая удовольствие шутка.
- Ползу и до того тесно к земле прижимаюсь, как по первому году к молодой жене не
прижимался, ей-богу, вот те крест,- серьезно перекрестился Конюков под хохот