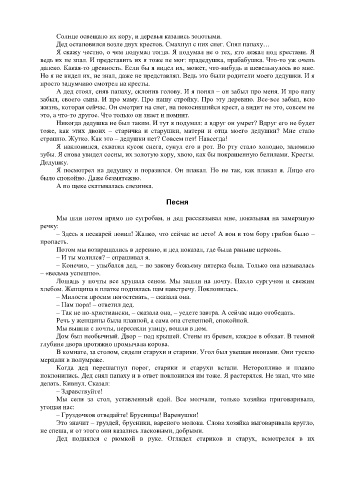Page 50 - Мой генерал
P. 50
Солнце освещало их кору, и деревья казались золотыми.
Дед остановился возле двух крестов. Смахнул с них снег. Снял папаху…
Я скажу честно, о чем подумал тогда. Я подумал не о тех, кто лежал под крестами. Я
ведь их не знал. И представить их я тоже не мог: прадедушка, прабабушка. Что-то уж очень
далеко. Какая-то древность. Если бы я видел их, может, что-нибудь и шевельнулось во мне.
Но я не видел их, не знал, даже не представлял. Ведь это были родители моего дедушки. И я
просто задумчиво смотрел на кресты.
А дед стоял, сняв папаху, склонив голову. И я понял – он забыл про меня. И про папу
забыл, своего сына. И про маму. Про нашу стройку. Про эту деревню. Все-все забыл, всю
жизнь, которая сейчас. Он смотрит на снег, на покосившийся крест, а видит не это, совсем не
это, а что-то другое. Что только он знает и помнит.
Никогда дедушка не был таким. И тут я подумал: а вдруг он умрет? Вдруг его не будет
тоже, как этих двоих – старичка и старушки, матери и отца моего дедушки? Мне стало
страшно. Жутко. Как это – дедушки нет? Совсем нет! Навсегда!
Я наклонился, схватил кусок снега, сунул его в рот. Во рту стало холодно, заломило
зубы. Я снова увидел сосны, их золотую кору, хвою, как бы покрашенную белилами. Кресты.
Дедушку.
Я посмотрел на дедушку и поразился. Он плакал. Но не так, как плакал я. Лицо его
было спокойно. Даже безмятежно.
А по щеке скатывалась слезинка.
Песня
Мы шли потом прямо по сугробам, и дед рассказывал мне, показывая на замерзшую
речку:
– Здесь я пескарей ловил! Жалко, что сейчас не лето! А вон в том бору грибов было –
пропасть.
Потом мы возвращались в деревню, и дед показал, где была раньше церковь.
– И ты молился? – спрашивал я.
– Конечно, – улыбался дед, – по закону божьему пятерка была. Только она называлась
– «весьма успешно».
Лошадь у почты все хрупала сеном. Мы зашли на почту. Пахло сургучом и свежим
хлебом. Женщина в платке поднялась нам навстречу. Поклонилась.
– Милости просим погостевать, – сказала она.
– Нам пора! – ответил дед.
– Так не по-христиански, – сказала она, – уедете завтра. А сейчас надо отобедать.
Речь у женщины была плавной, а сама она степенной, спокойной.
Мы вышли с почты, пересекли улицу, вошли в дом.
Дом был необычный. Двор – под крышей. Стены из бревен, каждое в обхват. В темной
глубине двора протяжно промычала корова.
В комнате, за столом, сидели старухи и старики. Угол был увешан иконами. Они тускло
мерцали в полумраке.
Когда дед перешагнул порог, старики и старухи встали. Неторопливо и плавно
поклонились. Дед снял папаху и в ответ поклонился им тоже. Я растерялся. Не знал, что мне
делать. Кивнул. Сказал:
– Здравствуйте!
Мы сели за стол, уставленный едой. Все молчали, только хозяйка приговаривала,
угощая нас:
– Груздочков отведайте! Брусницы! Варенушки!
Это значит – груздей, брусники, вареного молока. Слова хозяйка выговаривала кругло,
не спеша, и от этого они казались ласковыми, добрыми.
Дед поднялся с рюмкой в руке. Оглядел стариков и старух, всмотрелся в их