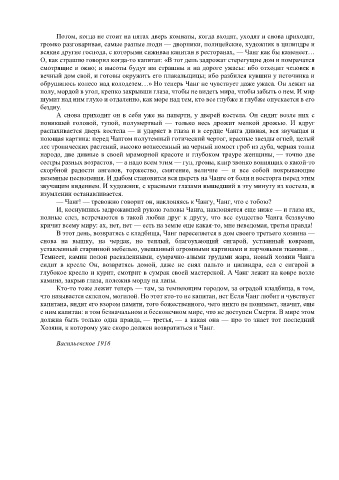Page 8 - Сны Чанга
P. 8
Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят,
громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и
всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет…
О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся
смотрящие в окно; и высоты будут им страшны и на дороге ужасы: ибо отходит человек в
вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и
обрушилось колесо над колодезем…» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на
полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир
шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его
бездну.
А снова приходит он в себя уже на паперти, у дверей костела. Он сидит возле них с
поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг
распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и
поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый
лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа
народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две
сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то
скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие
неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим
звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в
изумлении останавливается.
— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу, Чанг, что с тобою?
И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их,
полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно
кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то, мне неведомая, третья правда!
В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина —
снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами,
уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями…
Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара, новый хозяин Чанга
сидит в кресле Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в
глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле
камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.
Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том,
что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет Если Чанг любит и чувствует
капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще
с ним капитан: в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом
должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то знает тот последний
Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.
Васильевское 1916