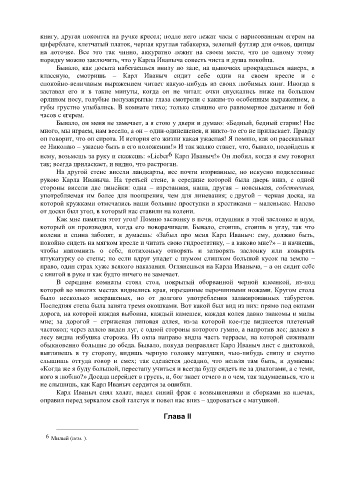Page 3 - Детство. Отрочество. После бала
P. 3
книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на
циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы
на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому
порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.
Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в
классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с
спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я
заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом
орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а
губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой
часов с егерем.
Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас
много, мы играем, нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду
он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал
ее Николаю – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к
6
нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил
так; всегда приласкает, и видно, что растроган.
На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные
рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной
стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная,
употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – черная доска, на
которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево
от доски был угол, в который нас ставили на колени.
Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум,
который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что
колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть,
покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь,
чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять
штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю –
право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе
с книгой в руке и как будто ничего не замечает.
В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под
которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола
было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов.
Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами
дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы
мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный
частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в
лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали
обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой,
выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно
слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь:
«Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми,
кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и
не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.
Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах,
оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз – здороваться с матушкой.
Глава II
6 Милый (нем. ).