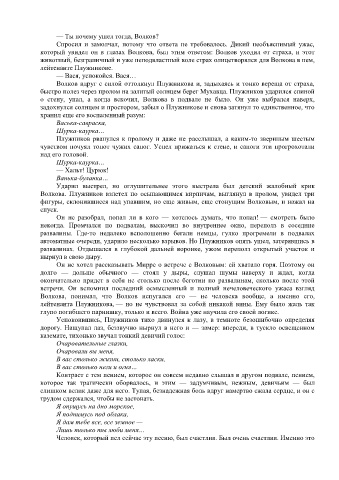Page 97 - В списках не значился
P. 97
— Ты почему ушел тогда, Волков?
Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий необъяснимый ужас,
который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот
животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем,
лейтенанте Плужникове.
— Вася, успокойся. Вася…
Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха,
быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной
о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх,
задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что
хранил еще его воспаленный разум:
Васька-савраска,
Шурка-каурка…
Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым
чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали
над его головой.
Шурка-каурка…
— Хальт! Цурюк!
Ванька-буланка…
Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик
Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три
фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на
спуск.
Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было
некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние
развалины. Где-то недалеко всполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах
автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в
развалинах. Отдышался в глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и
нырнул в свою дыру.
Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он
долго — дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда
окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой
встречи. Он вспомнил последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд
Волкова, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его,
лейтенанта Плужникова, — но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так
глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.
Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя
дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и — замер: впереди, в тускло освещенном
каземате, тихонько звучал тонкий девичий голос:
Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня,
В вас столько жизни, столько ласки,
В вас столько неги и огня…
Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением,
которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичьим — был
слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с
трудом сдержался, чтобы не застонать.
Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь под облака,
Я дам тебе все, все земное —
Лишь только ты люби меня…
Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это