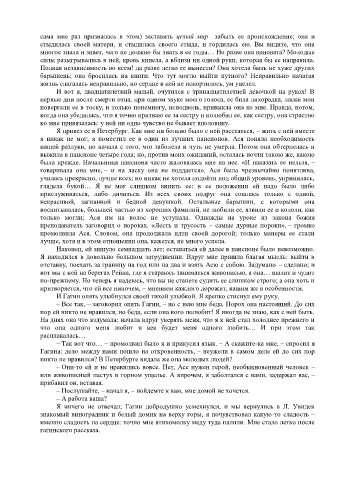Page 13 - Ася
P. 13
сама мне раз призналась в этом) заставить целый мир забыть ее происхождение; она и
стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она
многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы… Но разве она виновата? Молодые
силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила.
Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других
барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая
жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.
И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В
первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои
повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом,
когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно
ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.
Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, – жить с ней вместе
я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость
нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и
выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою
была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, –
говаривала она мне, – и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива,
училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась,
глядела букой… Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо
прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной,
некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она
воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи, как
только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия
преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость – самые дурные пороки», – громко
промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали
лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.
Наконец, ей минуло семнадцать лет; оставаться ей далее в пансионе было невозможно.
Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в
отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано – сделано; и
вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она… шалит и чудит
по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и
притворяется, что ей все нипочем, – мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.
И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.
– Все так, – заговорил опять Гагин, – но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих
пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть.
На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и
что она одного меня любит и век будет меня одного любить… И при этом так
расплакалась…
– Так вот что… – промолвил было я и прикусил язык. – А скажите-ка мне, – спросил я
Гагина: дело между нами пошло на откровенность, – неужели в самом деле ей до сих пор
никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?
– Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек –
или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, –
прибавил он, вставая.
– Послушайте, – начал я, – пойдемте к вам, мне домой не хочется.
– А работа ваша?
Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев
знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость –
именно сладость на сердце: точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после
гагинского рассказа.