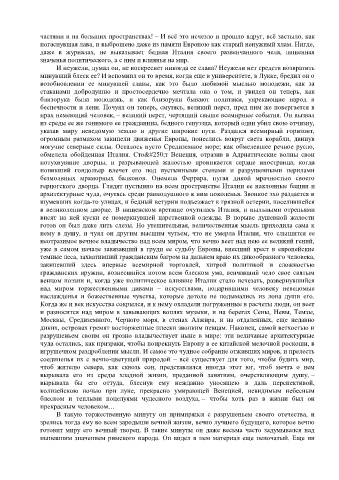Page 103 - Петербурские повести
P. 103
частями и на больших пространствах! – И всё это исчезло и прошло вдруг, всё застыло, как
погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти Европою как старый ненужный хлам. Нигде,
даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенная
значенья политического, а с ним и влиянья на мир.
И неужели, думал он, не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить
минувший блеск ее? И вспомнил он то время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о
возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за
стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том, и увидел он теперь, как
близорука была молодежь, и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в
беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, великий перст, пред ним же повергается в
прах немеющий человек, – великий перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал
из среды ее же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну,
указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт,
огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув
могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло,
обмелела обойденная Италия. Стоúт Венеция, отразив в Адриатические волны свои
потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда
поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами
безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего
герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклонные башни и
архитектурные чуда, очутясь среди равнодушного к ним поколенья. Звонкое эхо раздается в
шумевших когда-то улицах, и бедный ветурин подъезжает к грязной остерии, поселившейся
в великолепном дворце. В нищенском вретище очутилась Италия, и пыльными отрепьями
висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды. В порыве душевной жалости
готов он был даже лить слезы. Но утешительная, величественная мысль приходила сама к
нему в душу, и чуял он другим высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее
неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений,
уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские
темные леса, захвативший гражданским багром на дальнем краю их дикообразного человека,
закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью
гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым
венцом поэзии и, когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся
над миром торжественными дивами – искусствами, подарившими человеку неведомые
наслажденья и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его.
Когда же и век искусства сокрылся, и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет
и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы,
Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира, и на отдаленных, еще недавно
диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и
разрушеньем своим он грозно владычествует ныне в мире: эти величавые архитектурные
чуда остались, как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в
игрушечном раздроблении мысли. И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть
соединенья их с вечно-цветущей природой – всё существует для того, чтобы будить мир,
чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем
вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, –
вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею в даль перспективой,
колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным
блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, – чтобы хоть раз в жизни был он
прекрасным человеком…
В такую торжественную минуту он примирялся с разрушеньем своего отечества, и
зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно
готовит миру его вечный творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над
нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый. Еще ни