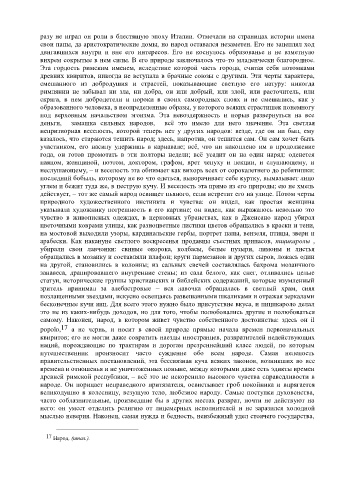Page 104 - Петербурские повести
P. 104
разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена
свои папы, да аристократические домы, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход
двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образованье и не взметнуло
вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески благородное.
Эта гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками
древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера,
смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда
римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый, или злой, или расточитель, или
скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у
образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу
под верховным начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все
деньги, – замашка сильных народов, – всё это имело для него значение. Эта светлая
непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему
казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть
участником, его насилу удержишь в карнавале; всё, что ни накоплено им в продолжение
года, он готов промотать в эти полторы недели; всё усадит он на один наряд: оденется
паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции, и слушающему, и
неслушающему, – и веселость эта обнимает как вихорь всех от сорокалетнего до ребятишки:
последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо
углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы; ею не хмель
действует, – тот же самый народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты
природного художественного инстинкта и чувства: он видел, как простая женщина
указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это
чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал
цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени,
на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и
арабески. Как накануне светлого воскресенья продавцы съестных припасов, пицикаролы ,
убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья
обращались в мозаику и составляли плафон; круги пармезанов и других сыров, ложась один
на другой, становились в колонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного
занавеса, драпировавшего внутренние стены; из сала белого, как снег, отливались целые
статуи, исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный
зритель принимал за алебастровые – вся лавочка обращалась в светлый храм, сияя
позлащенными звездами, искусно освещаясь развешанными шкаликами и отражая зеркалами
бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пицикароло делал
это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и полюбоваться
самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il
17
popolo, а не чернь, и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных
квиритов; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих
наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым
путешественник произносит часто суждение обо всем народе. Самая нелепость
правительственных постановлений, эта бессвязная куча всяких законов, возникших во все
времена и отношенья и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты времен
древней римской республики, – всё это не искоренило высокого чувства справедливости в
народе. Он порицает неправедного притязателя, освистывает гроб покойника и впрягается
великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовенства,
часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на
него: он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной
мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства,
17 Народ. (итал.).