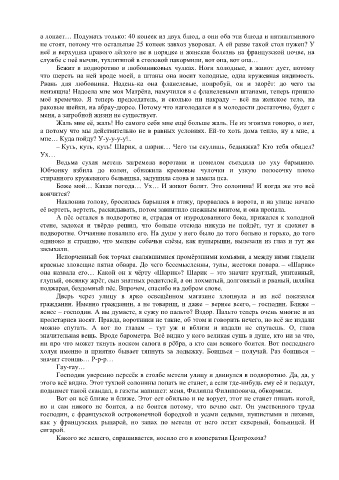Page 2 - Собачье сердце
P. 2
а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного
не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У
неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на
службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она…
Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому
что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость.
Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты
неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло
моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – всё на женское тело, на
раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с
меня, а загробной жизни не существует.
Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет,
а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а
мне… Куда пойду? У-у-у-у-у!..
– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел?
Ух…
Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню.
Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо
стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.
Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина! И когда же это всё
кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало
её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.
А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной
стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в
подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того
одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же
засыхали.
Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели
красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. – «Шарик»
она назвала его… Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный,
глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка
поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула и из неё показался
гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе –
яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из
пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали
можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза
значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что,
ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего
холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься –
значит стоишь… Р-р-р…
Гау-гау…
Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у
этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут,
поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.
Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой,
но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда
господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими,
как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И
сигарой.
Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза?