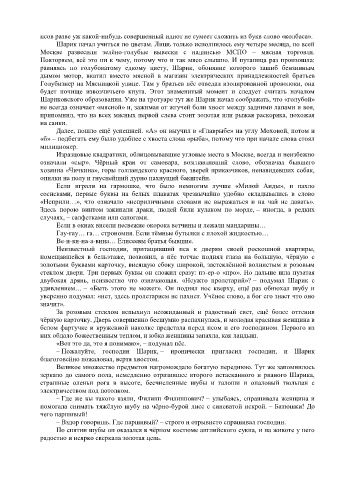Page 5 - Собачье сердце
P. 5
псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».
Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей
Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО – мясная торговля.
Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла:
равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным
дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев
Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, она
будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом
Шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой»
не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя,
припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая
на санки.
Далее, пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, потом и
«б» – подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял
милиционер.
Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно
означали «сыр». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего
хозяина «Чичкина», горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак,
опилки на полу и гнуснейший дурно пахнущий бакштейн.
Если играли на гармошке, что было немногим лучше «Милой Аиды», и пахло
сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово
«Неприли…», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать».
Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, – иногда, в редких
случаях, – салфетками или сапогами.
Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины…
Гау-гау… га… строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью…
Ве-и-ви-на-а-вина… Елисеевы братья бывшие.
Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры,
помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с
золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым
стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о «про». Но дальше шла пузатая
двубокая дрянь, неизвестно что означающая. «Неужто пролетарий»? – подумал Шарик с
удивлением… – «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и
уверенно подумал: «нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а бог его знает что оно
значит».
За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, ещё более оттенив
чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в
белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из
них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.
«Вот это да, это я понимаю», – подумал пёс.
– Пожалуйте, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик
благоговейно пожаловал, вертя хвостом.
Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось
зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика,
страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с
электричеством под потолком.
– Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь, спрашивала женщина и
помогала снимать тяжёлую шубу на чёрно-бурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки! До
чего паршивый!
– Вздор говоришь. Где паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин.
По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него
радостно и неярко сверкала золотая цепь.