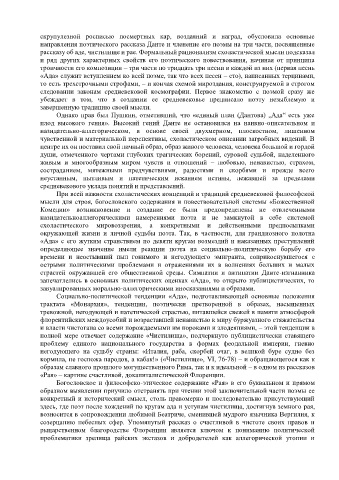Page 4 - Божественная комедия
P. 4
скрупулезной росписью посмертных кар, воздаяний и наград, обусловила основные
направления поэтического рассказа Данте и членение его поэмы на три части, посвященные
рассказу об аде, чистилище и рае. Формальный рационализм схоластической мысли подсказал
и ряд других характерных свойств его поэтического повествования, начиная от принципа
троичности его композиции – три части по тридцать три песни в каждой из них (первая песнь
«Ада» служит вступлением ко всей поэме, так что всех песен – сто), написанных терцинами,
то есть трехстрочными строфами, – и кончая схемой мироздания, конструируемой в строгом
следовании законам средневековой космографии. Первое знакомство с поэмой сразу же
убеждает в том, что в создании ее средневековье предписало поэту незыблемую и
завершенную традицию своей мысли.
Однако прав был Пушкин, отметивший, что «единый план (Дантова) „Ада“ есть уже
плод высокого гения». Высокий гений Данте не остановился на наивно-описательном и
назидательно-аллегорическом, в основе своей двухмерном, плоскостном, лишенном
чувственной и материальной перспективы, схоластическом описании загробных видений. В
центре их он поставил свой личный образ, образ живого человека, человека большой и гордой
души, отмеченного чертами глубоких трагических борений, суровой судьбой, наделенного
живым и многообразным миром чувств и отношений – любовью, ненавистью, страхом,
состраданием, мятежными предчувствиями, радостями и скорбями и прежде всего
неустанным, пытливым и патетическим исканием истины, лежавшей за пределами
средневекового уклада понятий и представлений.
При всей важности схоластических концепций и традиций средневековой философской
мысли для строя, богословского содержания и повествовательной системы «Божественной
Комедии» возникновение и создание ее были предопределены не отвлеченными
назидательноаллегорическими намерениями поэта и не замкнутой в себе системой
схоластического мировоззрения, а конкретными и действенными предпосылками
окружающей жизни и личной судьбы поэта. Так, в частности, для грандиозного полотна
«Ада» с его жутким странствием по девяти кругам возмездий и наказанных преступлений
определяющее значение имели реакции поэта на социально-политическую борьбу его
времени и неостывший пыл гонимого и негодующего эмигранта, соприкоснувшегося с
острыми политическими проблемами и отражениями их в волнениях больших и малых
страстей окружавшей его общественной среды. Симпатии и антипатии Данте-изгнанника
запечатлелись в основных политических оценках «Ада», то открыто публицистических, то
завуалированных морально-аллегорическими иносказаниями и образами.
Социально-политической тенденции «Ада», подготавливающей основные положения
трактата «Монархия», тенденции, поэтически претворенной в образах, насыщенных
тревожной, негодующей и патетической страстью, питавшейся свежей в памяти атмосферой
флорентийских междоусобий и возраставшей ненавистью к миру буржуазного стяжательства
и власти чистогана со всеми порождаемыми им пороками и злодеяниями, – этой тенденции в
полной мере отвечает содержание «Чистилища», подчеркнуто публицистически ставящего
проблему единого национального государства в формах феодальной империи, гневно
негодующего на судьбу страны: «Италия, раба, скорбей очаг, в великой буре судно без
кормила, не госпожа народов, а кабак!» («Чистилище», VI, 76-78) – и обращающегося как к
образам славного прошлого могущественного Рима, так и к идеальной – в одном из рассказов
«Рая» – картине счастливой, докапиталистической Флоренции.
Богословское и философско-этическое содержание «Рая» в его буквальном и прямом
образном выявлении приучило отстранять при чтении этой заключительной части поэмы ее
конкретный и исторический смысл, столь правомерно и последовательно присутствующий
здесь, где поэт после хождений по кругам ада и уступам чистилища, достигнув земного рая,
возносится в сопровождении любимой Беатриче, сменившей мудрого язычника Вергилия, к
созерцанию небесных сфер. Упомянутый рассказ о счастливой в чистоте своих нравов и
рыцарственном благородстве Флоренции является ключом к пониманию политической
проблематики зрелища райских экстазов и добродетелей как аллегорической утопии и