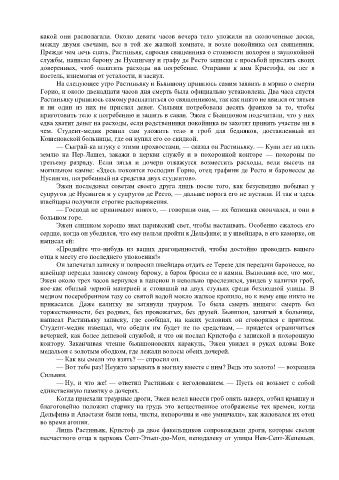Page 135 - Отец Горио
P. 135
какой они располагали. Около девяти часов вечера тело уложили на сколоченные доски,
между двумя свечами, все в той же жалкой комнате, и возле покойника сел священник.
Прежде чем лечь спать, Растиньяк, спросив священника о стоимости похорон и заупокойной
службы, написал барону де Нусингену и графу де Ресто записки с просьбой прислать своих
доверенных, чтоб оплатить расходы на погребение. Отправив к ним Кристофа, он лег в
постель, изнемогая от усталости, и заснул.
На следующее утро Растиньяку и Бьяншону пришлось самим заявить в мэрию о смерти
Горио, и около двенадцати часов дня смерть была официально установлена. Два часа спустя
Растиньяку пришлось самому расплатиться со священником, так как никто не явился от зятьев
и ни один из них не прислал денег. Сильвия потребовала десять франков за то, чтобы
приготовить тело к погребению и зашить в саван. Эжен с Бьяншоном подсчитали, что у них
едва хватит денег на расходы, если родственники покойника не захотят принять участие ни в
чем. Студент-медик решил сам уложить тело в гроб для бедняков, доставленный из
Кошеновской больницы, где он купил его со скидкой.
— Сыграй-ка штуку с этими прохвостами, — сказал он Растиньяку. — Купи лет на пять
землю на Пер-Лашез, закажи в церкви службу и в похоронной конторе — похороны по
третьему разряду. Если зятья и дочери откажутся возместить расходы, вели высечь на
могильном камне: «Здесь покоится господин Горио, отец графини де Ресто и баронессы де
Нусинген, погребенный на средства двух студентов».
Эжен последовал советам своего друга лишь после того, как безуспешно побывал у
супругов де Нусинген и у супругов де Ресто, — дальше порога его не пустили. И так и здесь
швейцары получили строгие распоряжения.
— Господа не принимают никого, — говорили они, — их батюшка скончался, и они в
большом горе.
Эжен слишком хорошо знал парижский свет, чтобы настаивать. Особенно сжалось его
сердце, когда он убедился, что ему нельзя пройти к Дельфине; и у швейцара, в его каморке, он
написал ей:
«Продайте что-нибудь из ваших драгоценностей, чтобы достойно проводить вашего
отца к месту его последнего упокоения!»
Он запечатал записку и попросил швейцара отдать ее Терезе для передачи баронессе, но
швейцар передал записку самому барону, а барон бросил ее в камин. Выполнив все, что мог,
Эжен около трех часов вернулся в пансион и невольно прослезился, увидев у калитки гроб,
кое-как обитый черной материей и стоявший на двух стульях среди безлюдной улицы. В
медном посеребренном тазу со святой водой мокло жалкое кропило, но к нему еще никто не
прикасался. Даже калитку не затянули трауром. То была смерть нищего: смерть без
торжественности, без родных, без провожатых, без друзей. Бьяншон, занятый в больнице,
написал Растиньяку записку, где сообщал, на каких условиях он сговорился с причтом.
Студент-медик извещал, что обедня им будет не по средствам, — придется ограничиться
вечерней, как более дешевой службой, и что он послал Кристофа с запиской в похоронную
контору. Заканчивая чтение бьяншоновских каракуль, Эжен увидел в руках вдовы Воке
медальон с золотым ободком, где лежали волосы обеих дочерей.
— Как вы смели это взять? — спросил он.
— Вот тебе раз! Неужто зарывать в могилу вместе с ним? Ведь это золото! — возразила
Сильвия.
— Ну, и что же! — ответил Растиньяк с негодованием. — Пусть он возьмет с собой
единственную памятку о дочерях.
Когда приехали траурные дроги, Эжен велел внести гроб опять наверх, отбил крышку и
благоговейно положил старику на грудь это вещественное отображенье тех времен, когда
Дельфина и Анастази были юны, чисты, непорочны и «не умничали», как жаловался их отец
во время агонии.
Лишь Растиньяк, Кристоф да двое факельщиков сопровождали дроги, которые свезли
несчастного отца в церковь Сент-Этьен-дю-Мон, неподалеку от улицы Нев-Сент-Женевьев.