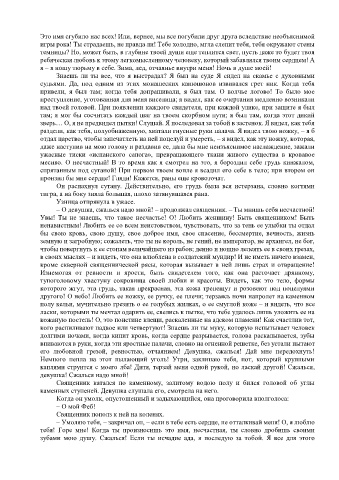Page 177 - Собор Парижской Богоматери
P. 177
Это имя сгубило нас всех! Или, вернее, мы все погубили друг друга вследствие необъяснимой
игры рока! Ты страдаешь, не правда ли! Тебе холодно, мгла слепит тебя, тебя окружают стены
темницы? Но, может быть, в глубине твоей души еще теплится свет, пусть даже то будет твоя
ребяческая любовь к этому легкомысленному человеку, который забавлялся твоим сердцем! А
я – я ношу тюрьму в себе. Зима, лед, отчаянье внутри меня! Ночь в душе моей!
Знаешь ли ты все, что я выстрадал? Я был на суде Я сидел на скамье с духовными
судьями. Да, под одним из этих монашеских капюшонов извивался грет ник. Когда тебя
привели, я был там; когда тебя допрашивали, я был там. О волчье логово! То было мое
преступление, уготованная для меня виселица; я видел, как ее очертания медленно возникали
над твоей головой. При появлении каждого свидетеля, при каждой улике, при защите я был
там; я мог бы сосчитать каждый шаг на твоем скорбном пути; я был там, когда этот дикий
зверь… О, я не предвидел пытки! Слушай. Я последовал за тобой в застенок. Я видел, как тебя
раздели, как тебя, полуобнаженную, хватали гнусные руки палача. Я видел твою ножку, – я б
отдал царство, чтобы запечатлеть на ней поцелуй и умереть, – я видел, как эту ножку, которая,
даже наступив на мою голову и раздавив ее, дала бы мне неизъяснимое наслаждение, зажали
ужасные тиски «испанского сапога», превращающего ткани живого существа в кровавое
месиво. О несчастный! В то время как я смотрел на это, я бороздил себе грудь кинжалом,
спрятанным под сутаной! При первом твоем вопле я всадил его себе в тело; при втором он
пронзил бы мне сердце! Гляди! Кажется, раны еще кровоточат.
Он распахнул сутану. Действительно, его грудь была вся истерзана, словно когтями
тигра, а на боку зияла большая, плохо затянувшаяся рана.
Узница отпрянула в ужасе.
– О девушка, сжалься надо мной! – продолжал священник. – Ты мнишь себя несчастной!
Увы! Ты не знаешь, что такое несчастье! О! Любить женщину! Быть священником! Быть
ненавистным! Любить ее со всем неистовством, чувствовать, что за тень ее улыбки ты отдал
бы свою кровь, свою душу, свое доброе имя, свое спасение, бессмертие, вечность, жизнь
земную и загробную; сожалеть, что ты не король, не гений, не император, не архангел, не бог,
чтобы повергнуть к ее стопам величайшего из рабов; денно и нощно лелеять ее в своих грезах,
в своих мыслях – и видеть, что она влюблена в солдатский мундир! И не иметь ничего взамен,
кроме скверной священнической рясы, которая вызывает в ней лишь страх и отвращение!
Изнемогая от ревности и ярости, быть свидетелем того, как она расточает дрянному,
тупоголовому хвастуну сокровища своей любви и красоты. Видеть, как это тело, формы
которого жгут, эта грудь, такая прекрасная, эта кожа трепещут и розовеют под поцелуями
другого! О небо! Любить ее ножку, ее ручку, ее плечи; терзаясь ночи напролет на каменном
полу кельи, мучительно грезить о ее голубых жилках, о ее смуглой коже – и видеть, что все
ласки, которыми ты мечтал одарить ее, свелись к пытке, что тебе удалось лишь уложить ее на
кожаную постель! О, это поистине клещи, раскаленные на адском пламени! Как счастлив тот,
кого распиливают надвое или четвертуют! Знаешь ли ты муку, которую испытывает человек
долгими ночами, когда кипит кровь, когда сердце разрывается, голова раскалывается, зубы
впиваются в руки, когда эти яростные палачи, словно на огненной решетке, без устали пытают
его любовной грезой, ревностью, отчаянием! Девушка, сжалься! Дай мне передохнуть!
Немного пепла на этот пылающий уголь! Утри, заклинаю тебя, пот, который крупными
каплями струится с моего лба! Дитя, терзай меня одной рукой, но ласкай другой! Сжалься,
девушка! Сжалься надо мной!
Священник катался по каменному, залитому водою полу и бился головой об углы
каменных ступеней. Девушка слушала его, смотрела на него.
Когда он умолк, опустошенный и задыхающийся, она проговорила вполголоса:
– О мой Феб!
Священник пополз к ней на коленях.
– Умоляю тебя, – закричал он, – если в тебе есть сердце, не отталкивай меня! О, я люблю
тебя! Горе мне! Когда ты произносишь это имя, несчастная, ты словно дробишь своими
зубами мою душу. Сжалься! Если ты исчадие ада, я последую за тобой. Я все для этого