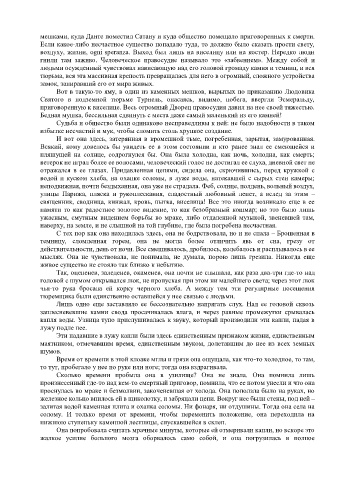Page 172 - Собор Парижской Богоматери
P. 172
мешками, куда Данте поместил Сатану и куда общество помещало приговоренных к смерти.
Если какое-либо несчастное существо попадало туда, то должно было сказать прости свету,
воздуху, жизни, ogni speranza. Выход был лишь на виселицу или на костер. Нередко люди
гнили там заживо. Человеческое правосудие называло это «забвением». Между собой и
людьми осужденный чувствовал нависающую над его головой громаду камня и темниц, и вся
тюрьма, вся эта массивная крепость превращалась для него в огромный, сложного устройства
замок, запиравший его от мира живых.
Вот в такую-то яму, в один из каменных мешков, вырытых по приказанию Людовика
Святого в подземной тюрьме Турнель, опасаясь, видимо, побега, ввергли Эсмеральду,
приговоренную к виселице. Весь огромный Дворец правосудия давил на нее своей тяжестью.
Бедная мушка, бессильная сдвинуть с места даже самый маленький из его камней!
Судьба и общество были одинаково несправедливы к ней: не было надобности в таком
избытке несчастий и мук, чтобы сломить столь хрупкое создание.
И вот она здесь, затерянная в кромешной тьме, погребенная, зарытая, замурованная.
Всякий, кому довелось бы увидеть ее в этом состоянии и кто ранее знал ее смеющейся и
пляшущей на солнце, содрогнулся бы. Она была холодна, как ночь, холодна, как смерть;
ветерок не играл более ее волосами, человеческий голос не достигал ее слуха, дневной свет не
отражался в ее глазах. Придавленная цепями, сидела она, скрючившись, перед кружкой с
водой и куском хлеба, на охапке соломы, в луже воды, натекавшей с сырых стен камеры;
неподвижная, почти бездыханная, она уже не страдала. Феб, солнце, полдень, вольный воздух,
улицы Парижа, пляска и рукоплескания, сладостный любовный лепет, а вслед за этим –
священник, сводница, кинжал, кровь, пытка, виселица! Все это иногда возникало еще в ее
памяти то как радостное золотое видение, то как безобразный кошмар; но это было лишь
ужасным, смутным видением борьбы во мраке, либо отдаленной музыкой, звеневшей там,
наверху, на земле, и не слышной на той глубине, где была погребена несчастная.
С тех пор как она находилась здесь, она не бодрствовала, но и не спала – Брошенная в
темницу, сломленная горем, она не могла более отличить явь от сна, грезу от
действительности, день от ночи. Все смешивалось, дробилось, колебалось и расплывалось в ее
мыслях. Она не чувствовала, не понимала, не думала, порою лишь грезила. Никогда еще
живое существо не стояло так близко к небытию.
Так, оцепенев, заледенев, окаменев, она почти не слышала, как раза два-три где-то над
головой с шумом открывался люк, не пропуская при этом ни малейшего света; через этот люк
чья-то рука бросала ей корку черного хлеба. А между тем эти регулярные посещения
тюремщика были единственно оставшейся у нее связью с людьми.
Лишь одно еще заставляло ее бессознательно напрягать слух. Над ее головой сквозь
заплесневевшие камни свода просачивалась влага, и через равные промежутки срывалась
капля воды. Узница тупо прислушивалась к звуку, который производили эти капли, падая в
лужу подле нее.
Эти падавшие в лужу капли были здесь единственным признаком жизни, единственным
маятником, отмечавшим время, единственным звуком, долетавшим до нее из всех земных
шумов.
Время от времени в этой клоаке мглы и грязи она ощущала, как что-то холодное, то там,
то тут, пробегало у нее по руке или ноге; тогда она вздрагивала.
Сколько времени пробыла она в узилище? Она не знала. Она помнила лишь
произнесенный где-то над кем-то смертный приговор, помнила, что ее потом унесли и что она
проснулась во мраке и безмолвии, закоченевшая от холода. Она поползла было на руках, но
железное кольцо впилось ей в щиколотку, и забряцали цепи. Вокруг нее были стены, под ней –
залитая водой каменная плита и охапка соломы. Ни фонаря, ни отдушины. Тогда она села на
солому. И только время от времени, чтобы переменить положение, она переходила на
нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускавшейся в склеп.
Она попробовала считать мрачные минуты, которые ей отмеривали капли, но вскоре это
жалкое усилие больного мозга оборвалось само собой, и она погрузилась в полное