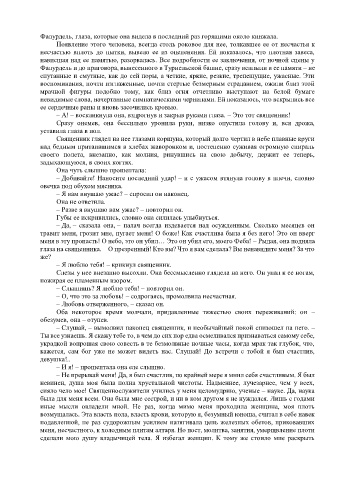Page 174 - Собор Парижской Богоматери
P. 174
Фалурдель, глаза, которые она видела в последний раз горящими около кинжала.
Появление этого человека, всегда столь роковое для нее, толкавшее ее от несчастья к
несчастью вплоть до пытки, вывело ее из оцепенения. Ей показалось, что плотная завеса,
нависшая над ее памятью, разорвалась. Все подробности ее заключения, от ночной сцены у
Фалурдель и до приговора, вынесенного в Турнельской башне, сразу всплыли в ее памяти – не
спутанные и смутные, как до сей поры, а четкие, яркие, резкие, трепещущие, ужасные. Эти
воспоминания, почти изглаженные, почти стертые безмерным страданием, ожили близ этой
мрачной фигуры подобно тому, как близ огня отчетливо выступают на белой бумаге
невидимые слова, начертанные симпатическими чернилами. Ей показалось, что вскрылись все
ее сердечные раны и вновь засочились кровью.
– А! – воскликнула она, вздрогнув и закрыв руками глаза. – Это тот священник!
Сразу онемев, она бессильно уронила руки, низко опустила голову и, вся дрожа,
уставила глаза в пол.
Священник глядел на нее глазами коршуна, который долго чертил в небе плавные круги
над бедным притаившимся в хлебах жаворонком и, постепенно суживая огромную спираль
своего полета, внезапно, как молния, ринувшись на свою добычу, держит ее теперь,
задыхающуюся, в своих когтях.
Она чуть слышно прошептала:
– Добивайте! Наносите последний удар! – и с ужасом втянула голову в плечи, словно
овечка под обухом мясника.
– Я вам внушаю ужас? – спросил он наконец.
Она не ответила.
– Разве я внушаю вам ужас? – повторил он.
Губы ее искривились, словно она силилась улыбнуться.
– Да, – сказала она, – палач всегда издевается над осужденным. Сколько месяцев он
травит меня, грозит мне, пугает меня! О боже! Как счастлива была я без него! Это он вверг
меня в эту пропасть! О небо, это он убил… Это он убил его, моего Феба! – Рыдая, она подняла
глаза на священника. – О презренный! Кто вы? Что я вам сделала? Вы ненавидите меня? За что
же?
– Я люблю тебя! – крикнул священник.
Слезы у нее внезапно высохли. Она бессмысленно глядела на него. Он упал к ее ногам,
пожирая ее пламенным взором.
– Слышишь? Я люблю тебя! – повторил он.
– О, что это за любовь! – содрогаясь, промолвила несчастная.
– Любовь отверженного, – сказал он.
Оба некоторое время молчали, придавленные тяжестью своих переживаний: он –
обезумев, она – отупев.
– Слушай, – вымолвил наконец священник, и необычайный покой снизошел на него. –
Ты все узнаешь. Я скажу тебе то, в чем до сих пор едва осмеливался признаваться самому себе,
украдкой вопрошая свою совесть в те безмолвные ночные часы, когда мрак так глубок, что,
кажется, сам бог уже не может видеть нас. Слушай! До встречи с тобой я был счастлив,
девушка!..
– И я! – прошептала она еле слышно.
– Не прерывай меня! Да, я был счастлив, по крайней мере я мнил себя счастливым. Я был
невинен, душа моя была полна хрустальной чистоты. Надменнее, лучезарнее, чем у всех,
сияло чело мое! Священнослужители учились у меня целомудрию, ученые – науке. Да, наука
была для меня всем. Она была мне сестрой, и ни в ком другом я не нуждался. Лишь с годами
иные мысли овладели мной. Не раз, когда мимо меня проходила женщина, моя плоть
возмущалась. Эта власть пола, власть крови, которую я, безумный юноша, считал в себе навек
подавленной, не раз судорожным усилием натягивала цепь железных обетов, приковавших
меня, несчастного, к холодным плитам алтаря. Но пост, молитва, занятия, умерщвление плоти
сделали мою душу владычицей тела. Я избегал женщин. К тому же стоило мне раскрыть