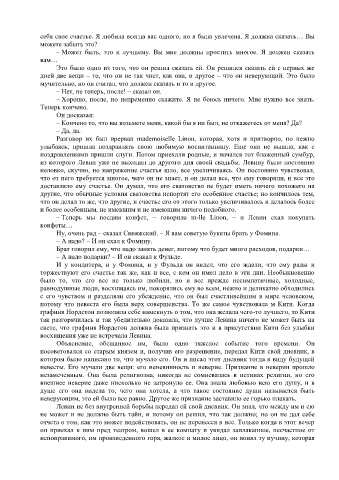Page 237 - Анна Каренина
P. 237
себя свое счастье. Я любила всегда вас одного, но я была увлечена. Я должна сказать… Вы
можете забыть это?
– Может быть, это к лучшему. Вы мне должны простить многое. Я должен сказать
вам…
Это было одно из того, что он решил сказать ей. Он решился сказать ей с первых же
дней две вещи – то, что он не так чист, как она, и другое – что он неверующий. Это было
мучительно, но он считал, что должен сказать и то и другое.
– Нет, не теперь, после! – сказал он.
– Хорошо, после, но непременно скажите. Я не боюсь ничего. Мне нужно все знать.
Теперь кончено.
Он досказал:
– Кончено то, что вы возьмете меня, какой бы я ни был, не откажетесь от меня? Да?
– Да, да.
Разговор их был прерван mademoiselle Linon, которая, хотя и притворно, но нежно
улыбаясь, пришла поздравлять свою любимую воспитанницу. Еще она не вышла, как с
поздравлениями пришли слуги. Потом приехали родные, и начался тот блаженный сумбур,
из которого Левин уже не выходил до другого дня своей свадьбы. Левину было постоянно
неловко, скучно, но напряжение счастья шло, все увеличиваясь. Он постоянно чувствовал,
что от него требуется многое, чего он не знает, и он делал все, что ему говорили, и все это
доставляло ему счастье. Он думал, что его сватовство не будет иметь ничего похожего на
другие, что обычные условия сватовства испортят его особенное счастье; но кончилось тем,
что он делал то же, что другие, и счастье его от этого только увеличивалось и делалось более
и более особенным, не имевшим и не имеющим ничего подобного.
– Теперь мы поедим конфет, – говорила m-lle Linon, – и Левин ехал покупать
конфеты…
Ну, очень рад – сказал Свияжский. – Я вам советую букеты брать у Фомина.
– А надо? – И он ехал к Фомину.
Брат говорил ему, что надо занять денег, потому что будет много расходов, подарки…
– А надо подарки? – И он скакал к Фульде.
И у кондитера, и у Фомина, и у Фульда он видел, что его ждали, что ему рады и
торжествуют его счастье так же, как и все, с кем он имел дело в эти дни. Необыкновенно
было то, что его все не только любили, но и все прежде несимпатичные, холодные,
равнодушные люди, восхищаясь им, покорялись ему во всем, нежно и деликатно обходились
с его чувством и разделяли его убеждение, что он был счастливейшим в мире человеком,
потому что невеста его была верх совершенства. То же самое чувствовала м Кити. Когда
графиня Нордстон позволила себе намекнуть о том, что она желала чего-то лучшего, то Кити
так разгорячилась и так убедительно доказала, что лучше Левина ничего не может быть на
свете, что графиня Нордстон должна была признать это и в присутствии Кити без улыбки
восхищения уже не встречала Левина.
Объяснение, обещанное им, было одно тяжелое событие того времени. Он
посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Кити свой дневник, в
котором было написано то, что мучало его. Он и писал этот дневник тогда в виду будущей
невесты. Его мучали две вещи: его неневинность и неверие. Признанне в неверии прошло
незамеченным. Она была религиозна, никогда не сомневалась в истинах религии, но его
внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. Она знала любовью всю его душу, и в
душе его она видела то, чего она хотела, а что такое состояние души называется быть
неверующим, это ей было все равно. Другое же признание заставило ее горько плакать.
Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею
не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно; но он не дал себе
отчета о том, как это может подействовать, он не перенесся в нее. Только когда в этот вечер
он приехал к ним пред театром, вошел в ее комнату и увидал заплаканное, несчастное от
непоправимого, им произведенного горя, жалкое и милое лицо, он понял ту пучину, которая