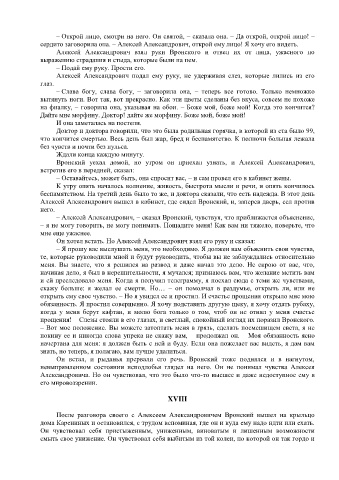Page 241 - Анна Каренина
P. 241
– Открой лицо, смотри на него. Он святой, – сказала она. – Да открой, открой лицо! –
сердито заговорила она. – Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть.
Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по
выражению страдания и стыда, которые были на нем.
– Подай ему руку. Прости его.
Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его
глаз.
– Слава богу, слава богу, – заговорила она, – теперь все готово. Только немножко
вытянуть ноги. Вот так, вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похоже
на фиалку, – говорила она, указывая на обои. – Боже мой, боже мой! Когда это кончится?
Дайте мне морфину. Доктор! дайте же морфину. Боже мой, боже мой!
И она заметалась на постели.
Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из ста было 99,
что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала
без чувств и почти без пульса.
Ждали конца каждую минуту.
Вронский уехал домой, но утром он приехал узнать, и Алексей Александрович,
встретив его в передней, сказал:
– Оставайтесь, может быть, она спросит вас, – и сам провел его в кабинет жены.
К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось
беспамятством. На третий день было то же, и доктора сказали, что есть надежда. В этот день
Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против
него.
– Алексей Александрович, – сказал Вронский, чувствуя, что приближается объяснение,
– я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня! Как вам ни тяжело, поверьте, что
мне еще ужаснее.
Он хотел встать. Но Алексей Александрович взял его руку и сказал:
– Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства,
те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно
меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что,
начиная дело, я был в нерешительности, я мучался; признаюсь вам, что желание мстить вам
и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами,
скажу больше: я желал ее смерти. Но… – он помолчал в раздумье, открыть ли, или не
открыть ему свое чувство. – Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою
обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху,
когда у меня берут кафтан, и молю бога только о том, чтоб он не отнял у меня счастье
прощения! – Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского.
– Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не
покину ее и никогда слова упрека не скажу вам, – продолжал он. – Моя обязанность ясно
начертана для меня: я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам
знать, но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться.
Он встал, и рыданья прервали его речь. Вронский тоже поднялся и в нагнутом,
невыпрямленном состоянии исподлобья глядел на него. Он не понимал чувства Алексея
Александровича. Но он чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в
его мировоззрении.
XVIII
После разговора своего с Алексеем Александровичем Вронский вышел на крыльцо
дома Карениных и остановился, с трудом вспоминая, где он и куда ему надо ндти или ехать.
Он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности
смыть свое унижение. Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по которой он так гордо и