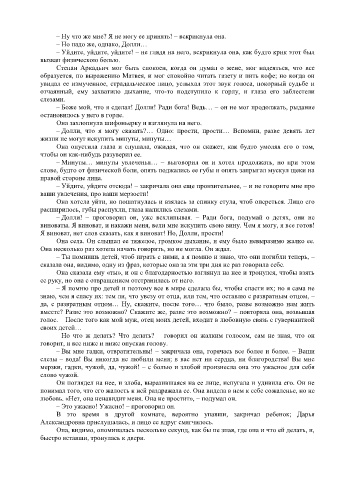Page 8 - Анна Каренина
P. 8
– Ну что же мне? Я не могу ее принять! – вскрикнула она.
– Но надо же, однако, Долли…
– Уйдите, уйдите, уйдите! – не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был
вызван физическою болью.
Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все
образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он
увидал ее измученное, страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса, покорный судьбе и
отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели
слезами.
– Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога! Ведь… – он не мог продолжать, рыдание
остановилось у него в горле.
Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.
– Долли, что я могу сказать?… Одно: прости, прости… Вспомни, разве девять лет
жизни не могут искупить минуты, минуты…
Она опустила глаза и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том,
чтобы он как-нибудь разуверил ее.
– Минуты… минуты увлеченья… – выговорил он и хотел продолжать, но при этом
слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на
правой стороне лица.
– Уйдите, уйдите отсюда! – закричала она еще пронзительнее, – и не говорите мне про
ваши увлечения, про ваши мерзости!
Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его
расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.
– Долли! – проговорил он, уже всхлипывая. – Ради бога, подумай о детях, они не
виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов!
Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!
Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее.
Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.
– Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, –
сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.
Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять
ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.
– Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не
знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, –
да, с развратным отцом… Ну, скажите, после того… что было, разве возможно нам жить
вместе? Разве это возможно? Скажите же, разве это возможно? – повторяла она, возвышая
голос. – После того как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой
своих детей…
– Но что ж делать? Что делать? – говорил он жалким голосом, сам не зная, что он
говорит, и все ниже и ниже опуская голову.
– Вы мне гадки, отвратительны! – закричала она, горячась все более и более. – Ваши
слезы – вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне
мерзки, гадки, чужой, да, чужой! – с болью и злобой произнесла она это ужасное для себя
слово чужой.
Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся на ее лице, испугала и удивила его. Он не
понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не
любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», – подумал он.
– Это ужасно! Ужасно! – проговорил он.
В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья
Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.
Она, видимо, опоминалась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и,
быстро вставши, тронулась к двери.