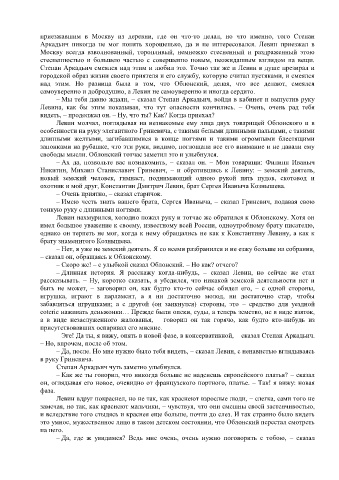Page 12 - Анна Каренина
P. 12
приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан
Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в
Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою
стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи.
Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и
городской образ жизни своего приятеля и его службу, которую считал пустяками, и смеялся
над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся
самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.
– Мы тебя давно ждали, – сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку
Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. – Очень, очень рад тебя
видеть, – продолжал он. – Ну, что ты? Как? Когда приехал?
Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в
особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми длинными пальцами, с такими
длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими
запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему
свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.
– Ах да, позвольте вас познакомить, – сказал он. – Мои товарищи: Филипп Иваныч
Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, – и обратившись к Левину: – земский деятель,
новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и
охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.
– Очень приятно, – сказал старичок.
– Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, – сказал Гриневич, подавая свою
тонкую руку с длинными ногтями.
Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он
имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю,
однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к
брату знаменитого Кознышева.
– Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания,
– сказал он, обращаясь к Облонскому.
– Скоро же! – с улыбкой сказал Облонский. – Но как? отчего?
– Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, – сказал Левин, но сейчас же стал
рассказывать. – Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и
быть не может, – заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, – с одной стороны,
игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы
забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это – средство для уездной
coterie наживать деньжонки… Прежде были опеки, суды, а теперь земство, не в виде взяток,
а в виде незаслуженного жалованья, – говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из
присутствовавших оспаривал его мнение.
– Эге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, – сказал Степан Аркадьич.
– Но, впрочем, после об этом.
– Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, – сказал Левин, с ненавистью вглядываясь
в руку Гриневича.
Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.
– Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? – сказал
он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. – Так! я вижу: новая
фаза.
Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, – слегка, сами того не
замечая, но так, как краснеют мальчики, – чувствуя, что они смешны своей застенчивостью,
и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть
это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть
на него.
– Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, – сказал