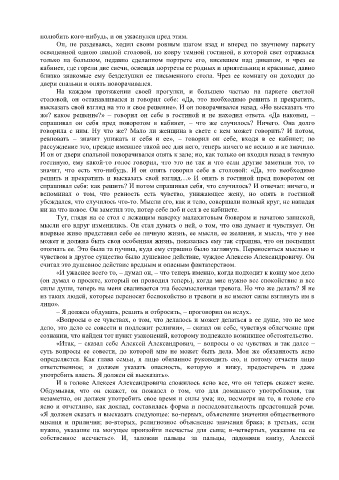Page 84 - Анна Каренина
P. 84
полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим.
Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету
освещенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался
только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и чрез ее
кабинет, где горели две свечи, освещая портреты ее родных и приятельниц и красивые, давно
близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Чрез ее комнату он доходил до
двери спальни и опять поворачивался.
На каждом протяжении своей прогулки, и большею частью на паркете светлой
столовой, он останавливался и говорил себе: «Да, это необходимо решить и прекратить,
высказать свой взгляд на это и свое решение». И он поворачивался назад. «Но высказать что
же? какое решение?» – говорил он себе в гостиной и не находил ответа. «Да наконец, –
спрашивал он себя пред поворотом в кабинет, – что же случилось? Ничего. Она долго
говорила с ним. Ну что же? Мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом,
ревновать – значит унижать и себя и ее», – говорил он себе, входя в ее кабинет; но
рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило.
И он от двери спальной поворачивался опять к зале; но, как только он входил назад в темную
гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так и что если другие заметили это, то
значит, что есть что-нибудь. И он опять говорил себе в столовой: «Да, это необходимо
решить и прекратить и высказать свой взгляд…» И опять в гостиной пред поворотом он
спрашивал себя: как решить? И потом спрашивал себя, что случилось? И отвечал: ничего, и
вспоминал о том, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять в гостиной
убеждался, что случилось что-то. Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая
ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете.
Тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начатою запиской,
мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он
впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее
может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил
отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и
чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он
считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством.
«И ужаснее всего то, – думал он, – что теперь именно, когда подходит к концу мое дело
(он думал о проекте, который он проводил теперь), когда мне нужно все спокойствие и все
силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не
из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в
лицо».
– Я должен обдумать, решить и отбросить, – проговорил он вслух.
«Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое
дело, это дело ее совести и подлежит религии», – сказал он себе, чувствуя облегчение при
сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство.
«Итак, – сказал себе Алексей Александрович, – вопросы о ее чувствах и так далее –
суть вопросы ее совести, до которой мне не может быть дела. Моя же обязанность ясно
определяется. Как глава семьи, я лицо обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо
ответственное; я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже
употребить власть. Я должен ей высказать».
И в голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет жене.
Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления, так
незаметно, он должен употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, в голове его
ясно и отчетливо, как доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи.
«Я должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного
мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака; в третьих, если
нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына; в-четвертых, указание на ее
собственное несчастье». И, заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей