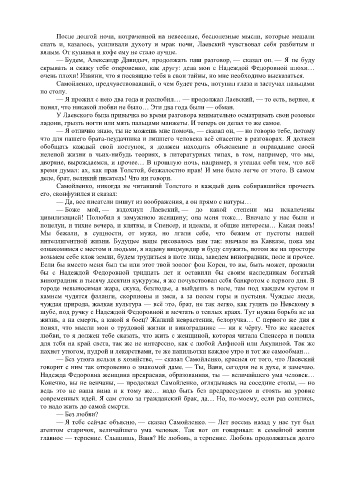Page 3 - Дуэль
P. 3
После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали
спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и
вялым. От купанья и кофе ему не стало лучше.
— Будем, Александр Давидыч, продолжать наш разговор, — сказал он. — Я не буду
скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи…
очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться.
Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами
по столу.
— Я прожил с нею два года и разлюбил… — продолжал Лаевский, — то есть, вернее, я
понял, что никакой любви не было… Эти два года были — обман.
У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые
ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.
— Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь, — сказал он, — но говорю тебе, потому
что для нашего брата-неудачника и лишнего человека всё спасение в разговорах. Я должен
обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей
нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы,
дворяне, вырождаемся, и прочее… В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что всё
время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом
деле, брат, великий писатель! Что ни говори.
Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть
его, сконфузился и сказал:
— Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры…
— Боже мой, — вздохнул Лаевский, — до какой степени мы искалечены
цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже… Вначале у нас были и
поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы… Какая ложь!
Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей
интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы
ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить, потом же на просторе
возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее.
Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили
бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый
виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В
городе невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и
камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди,
чуждая природа, жалкая культура — всё это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в
шубе, под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на
жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка… С первого же дня я
понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике — ни к чёрту. Что же касается
любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла
для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же
пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папильотки каждое утро и тот же самообман…
— Без утюга нельзя в хозяйстве, — сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский
говорит с ним так откровенно о знакомой даме. — Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю.
Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшего ума человек…
Конечно, вы не венчаны, — продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы, — но
ведь это не ваша вина и к тому же… надо быть без предрассудков и стоять на уровне
современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да… Но, по-моему, если раз сошлись,
то надо жить до самой смерти.
— Без любви?
— Я тебе сейчас объясню, — сказал Самойленко. — Лет восемь назад у нас тут был
агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни
главное — терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго