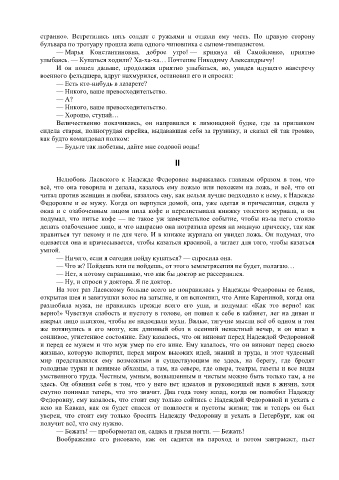Page 6 - Дуэль
P. 6
странно». Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону
бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом.
— Марья Константиновна, доброе утро! — крикнул ей Самойленко, приятно
улыбаясь. — Купаться ходили? Ха-ха-ха… Почтение Никодиму Александрычу!
И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу
военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил:
— Есть кто-нибудь в лазарете?
— Никого, ваше превосходительство.
— А?
— Никого, ваше превосходительство.
— Хорошо, ступай…
Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком
сидела старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко,
как будто командовал полком:
— Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!
II
Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что
всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и всё, что он
читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде
Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она, уже одетая и причесанная, сидела у
окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала, и он
подумал, что питье кофе — не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило
делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как
нравиться тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что
одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, а читает для того, чтобы казаться
умной.
— Ничего, если я сегодня пойду купаться? — спросила она.
— Что ж? Пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю…
— Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился.
— Ну, и спроси у доктора. Я не доктор.
На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая,
открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она
разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как
верно!» Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и
накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли всё об одном и том
же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в
сонливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной
и перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своею
жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный
мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят
голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды
умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не
здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя
смутно понимал теперь, что это значит. Два года тому назад, когда он полюбил Надежду
Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с
нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни; так и теперь он был
уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он
получит всё, что ему нужно.
— Бежать! — пробормотал он, садясь и грызя ногти. — Бежать!
Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет