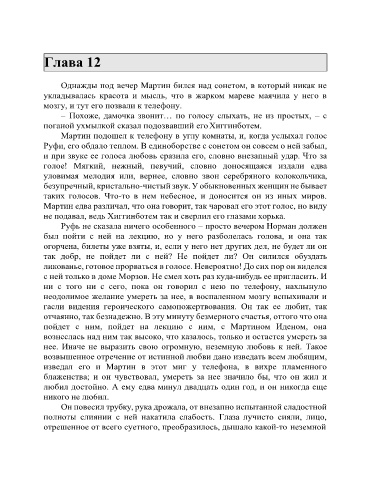Page 79 - Мартин Иден
P. 79
Глава 12
Однажды под вечер Мартин бился над сонетом, в который никак не
укладывалась красота и мысль, что в жарком мареве маячила у него в
мозгу, и тут его позвали к телефону.
– Похоже, дамочка звонит… по голосу слыхать, не из простых, – с
поганой ухмылкой сказал подозвавший его Хиггинботем.
Мартин подошел к телефону в углу комнаты, и, когда услыхал голос
Руфи, его обдало теплом. В единоборстве с сонетом он совсем о ней забыл,
и при звуке ее голоса любовь сразила его, словно внезапный удар. Что за
голое! Мягкий, нежный, певучий, словно доносящаяся издали едва
уловимая мелодия или, вернее, словно звон серебряного колокольчика,
безупречный, кристально-чистый звук. У обыкновенных женщин не бывает
таких голосов. Что-то в нем небесное, и доносится он из иных миров.
Мартин едва различал, что она говорит, так чаровал его этот голос, но виду
не подавал, ведь Хиггинботем так и сверлил его глазами хорька.
Руфь не сказала ничего особенного – просто вечером Норман должен
был пойти с ней на лекцию, но у него разболелась голова, и она так
огорчена, билеты уже взяты, и, если у него нет других дел, не будет ли он
так добр, не пойдет ли с ней? Не пойдет ли? Он силился обуздать
ликованье, готовое прорваться в голосе. Невероятно! До сих пор он виделся
с ней только в доме Морзов. Не смел хоть раз куда-нибудь ее пригласить. И
ни с того ни с сего, пока он говорил с нею по телефону, нахлынуло
неодолимое желание умереть за нее, в воспаленном мозгу вспыхивали и
гасли видения героического самопожертвования. Он так ее любит, так
отчаянно, так безнадежно. В эту минуту безмерного счастья, оттого что она
пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, она
вознеслась над ним так высоко, что казалось, только и остается умереть за
нее. Иначе не выразить свою огромную, неземную любовь к ней. Такое
возвышенное отречение от истинной любви дано изведать всем любящим,
изведал его и Мартин в этот миг у телефона, в вихре пламенного
блаженства; и он чувствовал, умереть за нее значило бы, что он жил и
любил достойно. А ему едва минул двадцать один год, и он никогда еще
никого не лю6ил.
Он повесил трубку, рука дрожала, от внезапно испытанной сладостной
полноты слиянии с ней накатила слабость. Глаза лучисто сияли, лицо,
отрешенное от всего суетного, преобразилось, дышало какой-то неземной