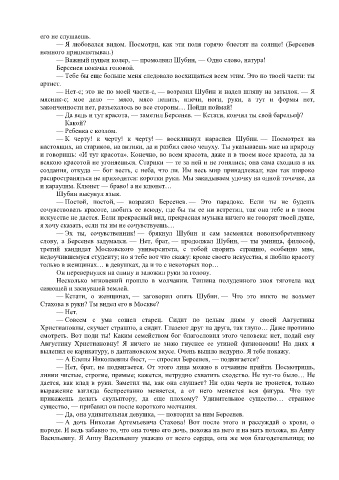Page 2 - Накануне
P. 2
его не слушаешь.
— Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев
немного пришепетывал.)
— Важный пущен колер, — промолвил Шубин, — Одно слово, натура!
Берсенев покачал головой.
— Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты
артист.
— Нет-с; это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я
мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет,
законченности нет, разъехалось во все стороны… Пойди поймай!
— Да ведь и тут красота, — заметил Берсенев. — Кстати, кончил ты свой барельеф?
— Какой?
— Ребенка с козлом.
— К черту! к черту! к черту! — воскликнул нараспев Шубин. — Посмотрел на
настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу
и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за
всякою красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их
создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко
распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да
и караулим. Клюнет — браво! а не клюнет…
Шубин высунул язык.
— Постой, постой, — возразил Берсенев. — Это парадокс. Если ты не будешь
сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем
искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе,
я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь…
— Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному
слову, а Берсенев задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин, — ты умница, философ,
третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне,
недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту
только в женщинах… в девушках, да и то с некоторых пор…
Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.
Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над
сияющей и заснувшей землей.
— Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это никто не возьмет
Стахова в руки? Ты видел его в Москве?
— Нет.
— Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины
Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо… Даже противно
смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил этого человека: нет, подай ему
Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я
вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.
— А Елены Николаевны бюст, — спросил Берсенев, — подвигается?
— Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь,
линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было… Не
дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только
выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут
прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо… странное
существо, — прибавил он после короткого молчания.
— Да, она удивительная девушка, — повторил за ним Берсенев.
— А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о
породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну
Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но