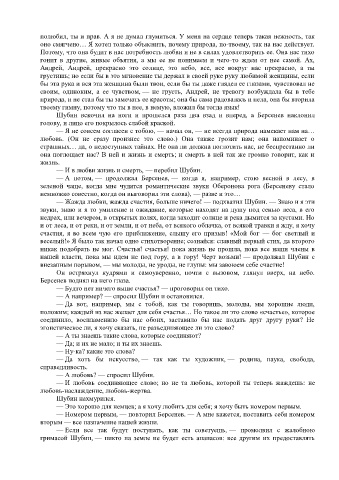Page 4 - Накануне
P. 4
полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так
оно смягчено… Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует.
Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо
гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах,
Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты
грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если
бы эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал не
своим, одиноким, а ее чувством, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе
природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила
твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!
Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил
голову, и лицо его покрылось слабой краской.
— Я не совсем согласен с тобою, — начал он, — не всегда природа намекает нам на…
любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о
страшных… да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли
она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и
жизнь.
— И в любви жизнь и смерть, — перебил Шубин.
— А потом, — продолжал Берсенев, — когда я, например, стою весной в лесу, в
зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсеневу стало
немножко совестно, когда он выговорил эти слова), — разве и это…
— Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти
звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его
недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но
и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу
счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и
веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго
никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в
нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! — продолжал Шубин с
внезапным порывом, — мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие!
Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо.
Берсенев поднял на него глаза.
— Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо.
— А например? — спросил Шубин и остановился.
— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди,
положим; каждый из нас желает для себя счастья… Но такое ли это слово «счастье», которое
соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не
эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?
— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?
— Да; и их не мало; и ты их знаешь.
— Ну-ка? какие это слова?
— Да хоть бы искусство, — так как ты художник, — родина, наука, свобода,
справедливость.
— А любовь? — спросил Шубин.
— И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не
любовь-наслаждение, любовь-жертва.
Шубин нахмурился.
— Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.
— Номером первым, — повторил Берсенев. — А мне кажется, поставить себя номером
вторым — все назначение нашей жизни.
— Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобною
гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять