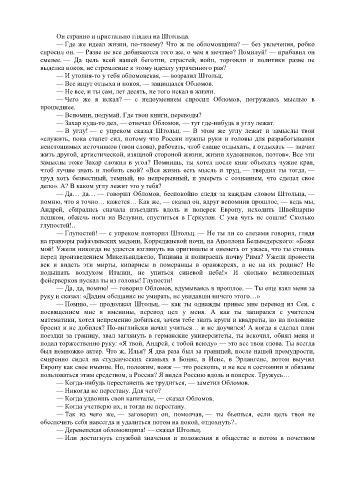Page 100 - Обломов
P. 100
Он странно и пристально глядел на Штольца.
— Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? — без увлечения, робко
спросил он. — Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! — прибавил он
смелее. — Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не
выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?
— И утопия-то у тебя обломовская, — возразил Штольц.
— Все ищут отдыха и покоя, — защищался Обломов.
— Не все, и ты сам, лет десять, не того искал в жизни.
— Чего же я искал? — с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в
прошедшее.
— Вспомни, подумай. Где твои книги, переводы?
— Захар куда-то дел, — отвечал Обломов, — тут где-нибудь в углу лежат.
— В углу! — с упреком сказал Штольц. — В этом же углу лежат и замыслы твои
«служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания
неистощимых источников (твои слова), работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать — значит
жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов». Все эти
замыслы тоже Захар сложил в угол? Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края,
чтоб лучше знать и любить свой? «Вся жизнь есть мысль и труд, — твердил ты тогда, —
труд хоть безвестный, темный, но непрерывный, и умереть с сознанием, что сделал свое
дело». А? В каком углу лежит это у тебя?
— Да… да… — говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца, —
помню, что я точно… кажется… Как же, — сказал он, вдруг вспомнив прошлое, — ведь мы,
Андрей, сбирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить Швейцарию
пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан. С ума чуть не сошли! Сколько
глупостей!..
— Глупостей! — с упреком повторил Штольц. — Не ты ли со слезами говорил, глядя
на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой ночи, на Аполлона Бельведерского: «Боже
мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь
перед произведением Микельанджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести
век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не
подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!» И сколько великолепных
фейерверков пускал ты из головы! Глупости!
— Да, да, помню! — говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. — Ты еще взял меня за
руку и сказал: «Дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого…»
— Помню, — продолжал Штольц, — как ты однажды принес мне перевод из Сея, с
посвящением мне в именины, перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем
математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине
бросил и не добился? По-английски начал учиться… и не доучился! А когда я сделал план
поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты, ты вскочил, обнял меня и
подал торжественно руку: «Я твой, Андрей, с тобой всюду» — это все твои слова. Ты всегда
был немножко актер. Что ж, Илья? Я два раза был за границей, после нашей премудрости,
смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене, потом выучил
Европу как свое имение. Но, положим, вояж — это роскошь, и не все в состоянии и обязаны
пользоваться этим средством, а Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь…
— Когда-нибудь перестанешь же трудиться, — заметил Обломов.
— Никогда не перестану. Для чего?
— Когда удвоишь свои капиталы, — сказал Обломов.
— Когда учетверю их, и тогда не перестану.
— Так из чего же, — заговорил он, помолчав, — ты бьешься, если цель твоя не
обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть?..
— Деревенская обломовщина! — сказал Штольц.
— Или достигнуть службой значения и положения в обществе и потом в почетном