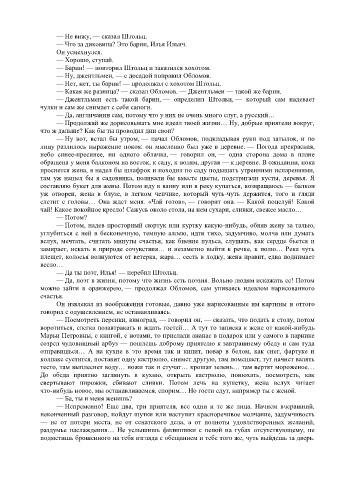Page 98 - Обломов
P. 98
— Не вижу, — сказал Штольц.
— Что за диковина? Это барин, Илья Ильич.
Он усмехнулся.
— Хорошо, ступай.
— Барин! — повторил Штольц и закатился хохотом.
— Ну, джентльмен, — с досадой поправил Обломов.
— Нет, нет, ты барин! — продолжал с хохотом Штольц.
— Какая же разница? — сказал Обломов. — Джентльмен — такой же барин.
— Джентльмен есть такой барин, — определил Штольц, — который сам надевает
чулки и сам же снимает с себя сапоги.
— Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуг, а русский…
— Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни… Ну, добрые приятели вокруг,
что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои?
— Ну вот, встал бы утром, — начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по
лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне. — Погода прекрасная,
небо синее-пресинее, ни одного облачка, — говорил он, — одна сторона дома в плане
обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока
проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями,
там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я
составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться, возвращаюсь — балкон
уж отворен, жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди
слетит с головы… Она ждет меня. «Чай готов», — говорит она. — Какой поцелуй! Какой
чай! Какое покойное кресло! Сажусь около стола, на нем сухари, сливки, свежее масло…
— Потом?
— Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью,
углубиться с ней в бесконечную, темную аллею, идти тихо, задумчиво, молча или думать
вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса, слушать, как сердце бьется и
замирает, искать в природе сочувствия… и незаметно выйти к речке, к полю… Река чуть
плещет, колосья волнуются от ветерка, жара… сесть в лодку, жена правит, едва поднимает
весло…
— Да ты поэт, Илья! — перебил Штольц.
— Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее! Потом
можно зайти в оранжерею, — продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного
счастья.
Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого
говорил с одушевлением, не останавливаясь.
— Посмотреть персики, виноград, — говорил он, — сказать, что подать к столу, потом
воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей… А тут то записка к жене от какой-нибудь
Марьи Петровны, с книгой, с нотами, то прислали ананас в подарок или у самого в парнике
созрел чудовищный арбуз — пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда
отправишься… А на кухне в это время так и кипит, повар в белом, как снег, фартуке и
колпаке суетится, поставит одну кастрюлю, снимет другую, там помешает, тут начнет валять
тесто, там выплеснет воду… ножи так и стучат… крошат зелень… там вертят мороженое…
До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как
свертывают пирожки, сбивают сливки. Потом лечь на кушетку, жена вслух читает
что-нибудь новое, мы останавливаемся, спорим… Но гости едут, например ты с женой.
— Ба, ты и меня женишь?
— Непременно! Еще два, три приятеля, все одни и те же лица. Начнем вчерашний,
неконченный разговор, пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость
— не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний,
раздумье наслаждения… Не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему, не
подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь.