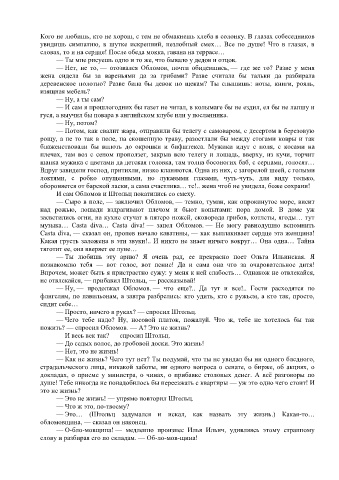Page 99 - Обломов
P. 99
Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников
увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех… Все по душе! Что в глазах, в
словах, то и на сердце! После обеда мокка, гавана на террасе…
— Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов.
— Нет, не то, — отозвался Обломов, почти обидевшись, — где же то? Разве у меня
жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала
деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь: ноты, книги, рояль,
изящная мебель?
— Ну, а ты сам?
— И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге бы не ездил, ел бы не лапшу и
гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника.
— Ну, потом?
— Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую
рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и так
блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля, с косами на
плечах, там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь, вверху, из кучи, торчит
шапка мужика с цветами да детская головка, там толпа босоногих баб, с серпами, голосят…
Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются. Одна из них, с загорелой шеей, с голыми
локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только,
обороняется от барской ласки, а сама счастлива… тс!.. жена чтоб не увидела, боже сохрани!
И сам Обломов и Штольц покатились со смеху.
— Сыро в поле, — заключил Обломов, — темно, туман, как опрокинутое море, висит
над рожью, лошади вздрагивают плечом и бьют копытами: пора домой. В доме уж
засветились огни, на кухне стучат в пятеро ножей, сковорода грибов, котлеты, ягоды… тут
музыка… Casta diva… Casta diva! — запел Обломов. — Не могу равнодушно вспомнить
Casta diva, — сказал он, пропев начало каватины, — как выплакивает сердце эта женщина!
Какая грусть заложена в эти звуки!.. И никто не знает ничего вокруг… Она одна… Тайна
тяготит ее, она вверяет ее луне…
— Ты любишь эту арию? Я очень рад, ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я
познакомлю тебя — вот голос, вот пение! Да и сама она что за очаровательное дитя!
Впрочем, может быть я пристрастно сужу: у меня к ней слабость… Однакож не отвлекайся,
не отвлекайся, — прибавил Штольц, — рассказывай!
— Ну, — продолжал Обломов. — что еще?.. Да тут и все!.. Гости расходятся по
флигелям, по павильонам, а завтра разбрелись: кто удить, кто с ружьем, а кто так, просто,
сидит себе…
— Просто, ничего в руках? — спросил Штольц.
— Чего тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что ж, тебе не хотелось бы так
пожить? — спросил Обломов. — А? Это не жизнь?
— И весь век так? — спросил Штольц.
— До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь!
— Нет, это не жизнь!
— Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного,
страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о
докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А всё разговоры по
душе! Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры — уж это одно чего стоит! И
это не жизнь?
— Это не жизнь! — упрямо повторил Штольц.
— Что ж это, по-твоему?
— Это… (Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь.) Какая-то…
обломовщина, — сказал он наконец.
— О-бло-мовщина! — медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному
слову и разбирая его по складам. — Об-ло-мов-щина!