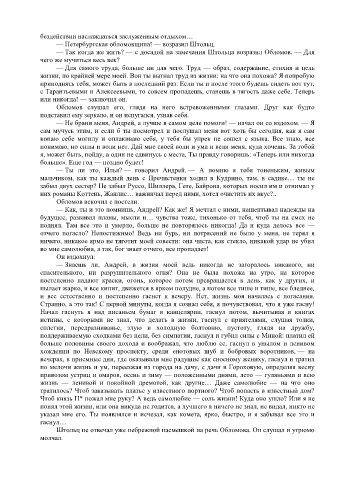Page 101 - Обломов
P. 101
бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом…
— Петербургская обломовщина! — возразил Штольц.
— Так когда же жить? — с досадой на замечания Штольца возразил Обломов. — Для
чего же мучиться весь век?
— Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель
жизни, по крайней мере моей. Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа? Я попробую
приподнять тебя, может быть в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут,
с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь
или никогда! — заключил он.
Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто
подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя.
— Не брани меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги! — начал он со вздохом. — Я
сам мучусь этим, и если б ты посмотрел и послушал меня вот хоть бы сегодня, как я сам
копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. Все знаю, все
понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь. За тобой
я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь: «Теперь или никогда
больше». Еще год — поздно будет!
— Ты ли это, Илья? — говорил Андрей. — А помню я тебя тоненьким, живым
мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино, там, в садике… ты не
забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гете, Байрона, которых носил им и отнимал у
них романы Коттень, Жанлис… важничал перед ними, хотел очистить их вкус?..
Обломов вскочил с постели.
— Как, ты и это помнишь, Андрей? Как же! Я мечтал с ними, нашептывал надежды на
будущее, развивал планы, мысли и… чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты на смех не
поднял. Там все это и умерло, больше не повторялось никогда! Да и куда делось все —
отчего погасло? Непостижимо! Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня, не терял я
ничего, никакое ярмо не тяготит моей совести: она чиста, как стекло, никакой удар не убил
во мне самолюбия, а так, бог знает отчего, все пропадает!
Он вздохнул:
— Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни
спасительного, ни разрушительного огня? Она не была похожа на утро, на которое
постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и
пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, а потом все тише и тише, все бледнее,
и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания.
Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну!
Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии, гаснул потом, вычитывая в книгах
истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки,
сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу,
поддерживаемую сходками без цели, без симпатии, гаснул и губил силы с Миной: платил ей
больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее, гаснул в унылом и ленивом
хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, — на
вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху, гаснул и тратил
по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну
привозом устриц и омаров, осень и зиму — положенными днями, лето — гуляньями и всю
жизнь — ленивой и покойной дремотой, как другие… Даже самолюбие — на что оно
тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом?
Чтоб князь П* пожал мне руку? А ведь самолюбие — соль жизни! Куда оно ушло? Или я не
понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не
указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и
гаснул…
Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо
молчал.